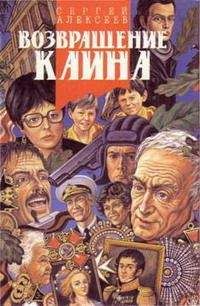— Хочешь — еще постучи, — спокойно бросил охранник и затворил камеру.
Онемевшее тело казалось чужим, неуправляемым, перетянутые руки посинели, но распиравшая его ярость не угасла, а будто сжалась в комок и затаилась горящим красным углем. Перед глазами возник афганец — тот самый, что рвался пострелять из танка и карабкался на броню. Его так же били дубинами, а он не чувствовал боли, вертелся под ударами как резиновый и что-то орал.
Вместе с бесчувственным телом очужело и время. Кирилл не помнил, не замечал его: ни к чему стало знать, вечер сейчас или ночь и сколько он находится в этой камере. Ему было хорошо, потому что уголь ярости вновь начал разгораться и притягивать к себе чувства. Вдруг дверь открылась, и охранник — тот, что бил или другой: все они стали казаться на одно лицо, — бесстрастно скомандовал:
— Выходи! Лицом к стене!
Кирилл вышел, разминая затекшие в неудобном положении ноги. Пристукнул каблуками, словно хотел сплясать.
— Лицом к стене!
Похоже, охранники и вся служба безопасности насмотрелись американских боевиков про полицейских и теперь до смешного копировали все их действия, команды, и потому их поведение казалось ненастоящим, а голоса звучали как голос переводчика — развязно, нудно и порой торопливо. Кирилл усмехнулся и выматерился с солдатской простотой — опять нарывался, однако страж насильно приставил его к стене и наскоро ощупал одежду и карманы.
— Иди вперед!
Его привели в кабинет на четвертом этаже, посадили на стул перед пустым столом. Поигрывая дубиной, охранник маячил за спиной, ждал хозяина. Не зря все-таки два года качал мышцы! Небольшая прогулка по коридорам и лестницам восстановила нарушенное движение мышц и их силу. Только бы сняли наручники, чтобы отошли руки…
Вошел хозяин — тонкий, узкоплечий человек в огромных очках, по пути к столу, хмуро распорядился:
— Наручники снять.
Охранник разомкнул челюсти железных браслетов, козырнул и скрылся за дверью. Кирилл усиленно растирал отекшие руки.
— Ерашов Кирилл Владимирович?
— Я! — откликнулся Кирилл.
— Руководство приносит вам официальные извинения за незаконное задержание, — проговорил очкастый, глядя в сторону. — Вы сами виноваты. Нашего сотрудника смутило ваше неадекватное поведение.
— Какое? — задиристо спросил Кирилл.
— Неадекватное! — раздраженно повторил очкастый. — Все, вы свободны. В соседнем кабинете получите вещи, отобранные при обыске.
— Нет, погодите! — взъярился Кирилл. — Мне ваши извинения!.. Где тело моего брата?
Очкастый сжал губы, приблизился к нему вплотную:
— Нам это неизвестно.
— Вам все здесь известно!
— Не знаю, где тело вашего брата, — отчетливо выговорил очкастый. — Я не стрелял по Белому дому. Вы — стреляли! Должно быть, и известно вам больше. Идите, ка-пи-тан…
Очки его словно увеличили ненависть в глазах, к нему, к Кириллу, ненависть, тяжелую, как ртуть, и холодно застывшую. Она гасила его ярость сильнее, чем резиновые дубинки охранников.
Может, и били его из ненависти…
Кирилл вышел из подъезда на пустую ночную улицу и только тут вспомнил, что еще действует в Москве комендантский час и центр города наверняка кишит патрулями. И сразу понял, что его специально выпустили ночью, чтобы подставить под дубинки ОМОНа. Кирилл обернулся к зданию, погрозил кулаком:
— Хорошо!
И не скрываясь, побежал по тротуару. Москва, словно огромная рыбина, заглотившая добычу, стояла на стремнине и слегка шевелилась жаберными крышками, пропуская воду; стояла с остекленевшими глазами, прислушиваясь к своему чреву, где переваривалась невидимая пища, где происходила незримая и мучительная работа. А мелкие рыбешки, проплывая мимо, принимали ее за мертвый камень…
Кирилл бежал с ожиданием окрика «Стой!» либо выстрелов в спину, однако скоро стал задыхаться — дубинки охранников не прошли даром. Он остановился, и приступ глубокого астматического кашля скрутил его пополам. Отплевавшись, он с трудом унял его и вытер губы — на ладони была кровь…
И эта своя кровь словно привела его в чувство. Он забрел в какой-то двор, протиснулся между мусорных баков и сел на пустой ящик. Долго держался, чтобы не курить, и, едва закурив, ощутил, как вместе с дымом закружился в легких щекотливый позыв к кашлю.
С окончанием комендантского часа он вышел на улицу, с трудом остановил машину и за большие деньги поехал домой. Он чувствовал усталость во всем теле, а вместе с ним как бы и ярость притомилась в крови и сознании. Он хотел только спать, а выспавшись, не знал, что станет делать дальше. Привыкший все время думать о будущем, так или иначе рассчитывать свой следующий шаг, сейчас он был лишен этой способности вместе с больной памятью прошлого. Суть всей жизни очень емко укладывалась в текущую минуту, и она, как лучик лазерного прицела, скользила в пространстве, выискивая цель.
Он едва поднялся на двенадцатый этаж: стариковские одышка и кашель мучили его на каждом марше. Он открывал мусоропровод и сплевывал кровь. С ключами наготове Кирилл подошел к своей двери и остановился.
На крашеной железной двери была надпись: «Здесь живет убийца».
Не веря глазам, он потрогал рукой буквы, написанные ярким суриком: краска еще не просохла и липла к пальцам.
— Хорошо, — проронил он и сел на ступеньку лестницы.
И затылком почувствовал рдеющие красные буквы.
Частная машина, на которой он приехал сюда, стояла у обочины.
— Поехали? — спросил Кирилл.
— Поехали! — довольно отозвался частник и отщелкнул кнопку на двери. — Что, здесь облом?
— Облом, — подтвердил он. — Гони к трем вокзалам.
— Что-то плохо выглядишь, командир, — посочувствовал частник, выруливая на пустынную по‑утреннему магистраль. — Не заболел?
— Нет, я брата убил, — признался Кирилл.
— Брата?.. Шутка, что ли? — натянуто улыбнулся частник. — Впрочем, да, по лицу видно, убил кого-то…
Руки на баранке стали нервными, хотя он не показывал виду.
— Не бойся, тебя не трону, — успокоил Кирилл. — Свези на вокзал.
— Да уж не убивай, — попросил частник. — Я извозом промышляю… От нужды, трое детей, жена по сокращению… Вообще-то я кандидат технических наук, в оборонке работал. Не «жигуль» этот — с голоду бы сдохли… Я утром выезжаю — жена целый день трясется. Сейчас многие убивают, сажать страшно… Посадишь и сам трясешься.
— Не трясись, не убью, — еще раз заверил Кирилл. — И заплачу. У меня денег много.
— Затрясешься тут, — один глаз его смотрел на дорогу, другой на Кирилла. — Затылок холодит…
— Если боишься — высади…
Он мгновение подумал и уже ногу сбросил с педали газа, однако вновь наддал.
— Ладно… Сколько заплатишь?
— Двести.
— Свезу, командир, — согласился частник. — За что брата-то…
— Ни за что…
— Сейчас много ни за что убивают. Человеческая жизнь потеряла свою цену. Когда жизнь дорожает — человек дешевеет. При коммунистах люди дороже были. Чуть какого диссидента еще только арестуют — на Западе визгу! Американцы готовы авианосец к нашим берегам поставить. Тоже ценили наших. А теперь вон средь бела дня из орудий расстреливают — хоть бы кто слово сказал. Полная поддержка. Мусор у нас стал, а не народ.
— Это я стрелял, — признался Кирилл.
— Где — стрелял? Куда?
— По Белому дому, среди белого дня…
Частник недоверчиво посмотрел, покачал головой, пожал плечами:
— Не пойму никак… Шутишь или нет?
— Спать хочу, — вдруг сказал Кирилл. — Глаза закрываются…
— Лучше поспи! — одобрил частник. — А то я от разговоров вспотел весь…
Он дотерпел все-таки до вокзала, рассчитываясь, сказал осмелевшему частнику:
— Фамилия моя — Ерашов, запомни. Потом, когда станет все известно, обязательно услышишь. Детям расскажешь — убийцу подвозил.
— Запомню, — пообещал тот, защелкивая дверь.
В электричке лучик прицела скользнул по головам пассажиров и угас.
Его разбудила какая-то женщина. Электричка стояла на городском вокзале, мгновенно перемещенная в пространстве. Кирилл вышел на перрон, зажмурился от яркого солнца и, смаргивая солнечные зайчики в глазах, побрел по направлению к Дендрарию. Только сейчас боль в избитом теле начала проявляться всей своей тяжестью. Каждое движение отдавалось в позвоночнике и вспухшем левом ухе, однако он, как мазохист, повторял про себя единственное слово — «хорошо!».
Вдруг кто-то окликнул его по имени. Слышало только правое ухо, и потому он не понял, откуда зовут.
— О! Не обозналась! Кирилл! — Перед ним оказалась та рыжая девушка с косинкой в глазах, которая купалась с ними в ночь перед крещением Аннушки. И вместе со всеми топила его, играя в русалок.
Он смотрел то в один ее глаз, то в другой и не мог понять, который косит и который смотрит прямо.
— Ты почему такой хмурый, Кирилл? — спросила она. — И бледный какой-то… Ах да, ты же расстался с Аннушкой!