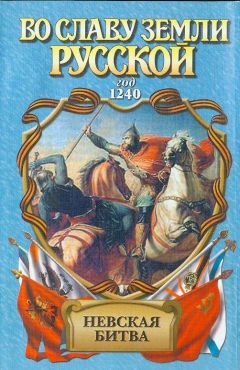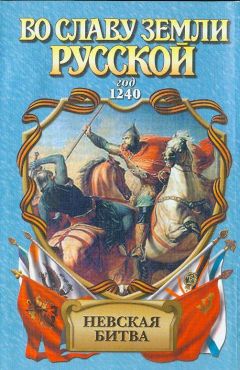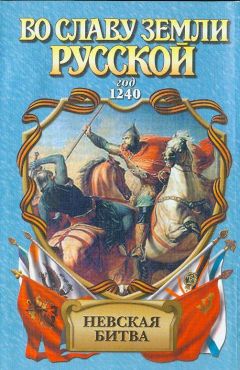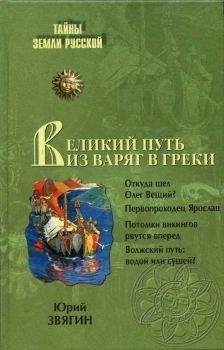— О Вероника! Вероника моя! — шептал он, ворочаясь по ночам точно так же, как ворочался бы благородный рыцарь, а не простой кузнец. Он был влюблен настоящей, возвышенной любовью, которая заставляет человека удивляться: «Боже! Как хорошо, что ее зовут именно так! Разве и могло бы у нее быть иное имя?» Он смотрел на других девушек и не мог понять, почему они все на одно лицо и почему они столь отвратительны. Он пытался вообразить себя обнимающим, к примеру, Анну Мюнгель или Вильгельмину Брейтнер, и его тотчас чуть не выворачивало наизнанку, хотя эти девушки почему-то считались записными рижскими красотками.
В него была влюблена Бригитта Ринк, она частенько приходила полюбоваться его работой в кузнице. Друзья говорили: «Чем тебе не пара? И красивая, и опрятная, любой бы согласился стать ее мужем», но Паулю казалось, будто это не девушка, а молоденькая крыска приходит и подсматривает за ним, настолько Бригитта не шла в его понимании ни в какое сравнение с Вероникой Хаммер.
Если бы не Андреас фон Прегола, молотобоец Пауль плохо бы кончил дни своей жизни. Скорее всего, он взобрался бы на высокую стену строящейся Дом-кирхи124 и с наслаждением упал с нее вниз головой, чтобы эта пылающая голова вошла в его грудную клетку и ударилась о сердце, переполненное тоской и болью неразделенной любви.
Но теперь все было по-другому. Благородный рыцарь Андреас уговорил отца Вероники не выдавать замуж свою дочь до тех пор, покуда кузнец Пауль Шредер не вернется в Ригу.
— Я привезу тебе, моя возлюбленная, все золотые и алмазные перстни, которые носят русские княгини, и украшу ими твои пальчики! — пообещал он Веронике на прощание.
— Смотри же, Пауль, никто не тянул тебя за язык, — усмехалась избалованная девушка, которая на самом-то деле была отнюдь не так хороша, как казалось влюбленному кузнецу, можно было отыскать сотню рижанок гораздо более красивых. — Если ты украсишь мои руки алмазами так, что не будет видно пальцев, я, быть может, соглашусь пойти за тебя замуж. Но только чтоб эти перстни и впрямь были из тех, которые носят русские княгини.
И вот теперь он шел по льду озера Пейпус, неся на плече свой тяжеленный моргенштерн по прозвищу Шрекнис, а впереди уже вовсю молотилось, как в его рижской кузнице, только еще страшнее и громче. Слышались крики, рев, лязг оружия и — удары, удары, удары… И в мечтах своих он уже видел, как возвращается в Ригу и как глашатаи кричат о нем: «Вот идет славный Пауль Шредер! Молотобоец, сразивший тысячу русичей! Это его моргенштерн залил русской кровью весь лед озера Пейпус! Это ему русские княгини отдали все свои золотые и алмазные перстни!..»
Оглядываясь, Пауль видел Андреаса фон Преголу и его брата Михаэля, одетых в латы, выкованные в его кузнице. Они ехали на лошадях не в рыле, а в левом плече свиньи. А Пауль шел пешком почти в середине рыла и видел вокруг себя только тех, кто сидел верхом, да самых ближних пехотинцев — Маркуса Трейля, тоже рижанина, Адольфа Брауна, из рижских предместий, троих эстов, постоянно распевавших свое дурацкое «писпилли», которое, должно быть, взбадривало их, но сильно раздражало Пауля. А ему уже не терпелось поскорее приступить к молотиловке, потому что надоело держать Шрекниса на плече, хотелось дать ему кровавой пищи.
Грохот впереди все усиливался, а Пауль до сих пор оставался не в битве.
— Эх! — волновался Маркус Трейль. — Вот-вот и до нас дойдет!
— Хорошо бы, — вздыхал Пауль. — А то братья Хейде со своими людьми окончат сами все дело, а нам никакой славы не достанется.
— Да уж, конечно, кончат! — возмущался Маркус.
— Они могут, — простодушно возражал Пауль. — Уж больно сильно свирепы на русских за то, что те вы гнали их из Плескау.
— Не бойся, кузнец, хватит и твоей дубине работенки, — смеялся Адольф Браун.
— Скорей бы. — В нетерпении Шредер поднимал очи к небу и видел там сердитые русские облака, серо бегущие по суровому низкому небу, будто и в них скрывались вражьи полки, готовые вот-вот ринуться на немцев сверху. И Паулю хотелось подпрыгнуть и садануть по этому небу своим тяжелым моргенштерном, раскроить небесные доспехи, чтоб оттуда брызнула кровь и посыпались золотые и алмазные перстни. Темно-красное знамя Рогира фон Стенде время от времени плескалось над лицом оружейника из Риги, но потом снова отодвигалось в сторону, оставляя пространство для серого неба, лишь слегка озаренного какими-то далекими солнечными лучами, не способными пробиться к людям.
Все ближе и ближе становились удары, лязг, треск и стоны, все нестерпимее хотелось поскорее дать первому русичу первый крепкий удар. Пусть они придут в восторг от того, как он умеет ударить сверху, а потом резко ткнуть острием моргенштерна рывком вперед, убивая еще одного.
Несколько раз в жизни ему доводилось ходить на войну, но это были карательные походы против бунтующих латгалов и ливов. Первые восставали против тевтонцев, вторые — против засилия латгалов на исконных ливонских землях. И тех и других не составляло особого труда привести в чувство. Но в такое большое сражение молотобоец Пауль шел впервые. Он прислушался к своему сердцу и вдруг понял, что оно колотится от волнения. Это его испугало — он не должен был пребывать в смятении. Чтобы успокоиться, Шредер стал в уме подсчитывать, кто еще ему остался в Риге должен за работу, вспоминая, в какие сроки должники обязаны были вернуть деньги, и получалось, что до конца года Паулю обеспечено безбедное существование. А тем более, если нынешний поход окажется успешным.
В таких приятных мыслях он продолжал двигаться все ближе и ближе к грохоту и треску. И прежде чем молотобоец Шредер вступил в битву, он успел еще раз взглянуть на русское небо и увидеть тяжелые серые облака, сквозь которые пыталось пробиться весеннее солнце. Рыжий эстонец Кало взялся размахивать своей булавою и едва не попал набалдашником по голове Пауля.
— Ну ты, рыбье охвостье! — толкнул его в свою очередь Пауль, и в следующий миг пред ним распахнулось пространство боя — Кало рухнул ему под ноги с расплющенным черепом, успев обрызгать своей рыжей кровью открытую шею Пауля. Тотчас разъяренные оскаленные морды русичей вспыхнули перед рижским оружейником, и он — наконец-то! — взмахнул своим грозным Шрекнисом, да так, что в грудной клетке у него хрустнуло. Он обрушил первый удар на круглый русский щит с изображением летящего орла, и щит треснул, но не рассыпался. Далее Шредер подставил свой щит и отразил им два не очень сильных дубинных удара, вновь размахнулся моргенштерном и ударил куда-то в человеческую гущу, в сверкание кольчужных колец, в бородатые кудри… Удар его пролетел сквозь воздух, не наткнувшись на человечью плоть, увлекая Пауля немного вперед, делая его на миг беззащитным. Короткий и легкий миг, но его хватило, чтобы чье-то тяжелое кропило хрястнуло рижского оружейника по загривку, припечатало его новым ударом ко льду. Еще не понимая, что произошло, Пауль распластался грудью на холодном льду Пейпуса, с недоумением глядя на льющуюся откуда-то густую кровь, пятно которой быстро увеличивалось в размерах — алое на белом. Он глотнул воздуха и захрипел, потому что воздуха не было. Глаза его выпучились от грянувшей боли в спине и затылке, сознание поплыло, взбалтывая вокруг себя густую пену, и в той пене сверкнул насмешливый и не любящий взгляд Вероники. «Ты еще полюбишь меня!» — хотел было крикнуть ей Пауль Шредер, но жизнь вместе с невыплаченными долгами заказчиков, вместе с не-доставшимися ему перстнями русских княгинь и вместе с этими тяжелыми серыми облаками неумолимо посыпалась из его убитого тела.
Глава четырнадцатая
— Доброе крушило! — воскликнул Семен Хлеб, подбирая тяжелую и зубастую немецкую палицу из-под только что убитого им здоровенного тевтонского пешца. Семенов цеп был ненамного хуже, но в густом бою способнее воевать не цепом, а такой вот дубиной. — Славный подарок мне на именины!
Его радовало, что именно сегодня, в день его именин, выпало случиться главному сражению. Находясь в челе, где заведомо предполагалось самое смертоносное кровопролитие, Хлеб отнюдь не грустил, давно решив для себя, что, как бы ни повернулась его судьба, — по-всякому хорошо. В родном Новгороде у него оставались одни только головные боли. С юности все складывалось у Семена хорошо, лучше, чем у многих, — отцову торговлю он добросовестно развивал, преумножая богатство, женился на наилучшей красавице Алене Петровне, уведя ее из-под носа у другого жениха, и думать не думал тогда, что суждено ему будет стать двоеженцем.
Как же такое получилось? А очень просто. Проще некуда. Житье у него с Аленой Петровной было распрекрасное, двух девочек она ему родила, обещала и сына в будущем дать, но постепенно стал Хлеб подмечать, что у других жены не такие горделивые и строгие, не допекают мужей всевозможными замечаниями по разным наималейшим пустякам. Особенно же Петровне не нравилось, если Семен позволял себе выпить лишнего. А он и никогда пьяницей не был, всегда трезвехонек, и где бы ни был по делам или по веселью, всегда домой спешил к жене.