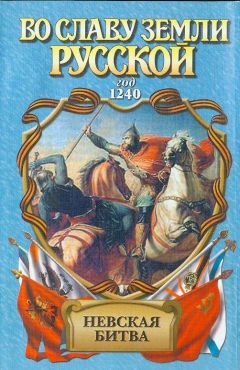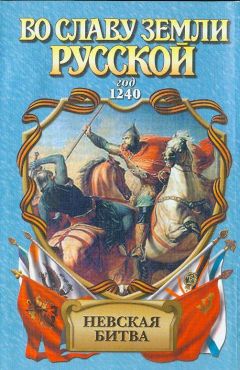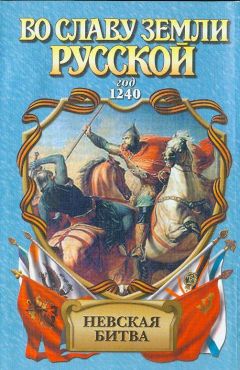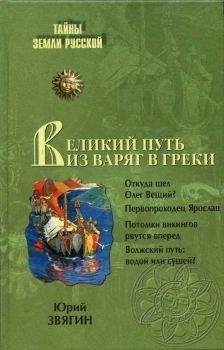Вдруг стало совсем невмоготу сделать хоть шаг вперед. Свинья, войдя обоими плечами в русское чело, надавила мощнее прежнего, пошла страшным натиском. И вот уже — шаг назад, еще шаг, еще и еще — двинулась середина чела отступать, расступаясь и пятясь, впуская в себя громоздкую тушу тевтонского войска.
— Что же это они делают, Господи! — воскликнул Хлеб, глядя на то, как, расступаясь, удаляются влево от него Миша Дюжий и Жидята, а там дальше — Роман Болдыжевич и Сбыслав, а вправо уходят, пятясь под натиском немца, Доможир и Гаврило Олексич, Ратибор и Кондрат. Неужто дрогнули? Да возможно ль такое! Стыд и срам!
Отступающий впереди Семена новгородец Илюха Рык споткнулся и неловко пал навзничь, пронзенный насквозь копьем конного немца так, что конец копья вылез из-под лопатки Рыка, и Хлеб успел его увидеть, и на груди у Семена прибавилось кровавых брызг, а он и без того уже изрядно был орошен кровью.
— Что ж это, Кондрат Сытинич! — крикнул Хлеб, видя, что одного только Кондрата Грозного затянуло течением внутрь отступающего чела, а остальные вожди столь отдалились, что уж и не видно их за дерущимися.
— Берег! — крикнул ему в ответ славный воевода. Двоеженец оглянулся и увидел, что уж до самого берега доотступались, дальше некуда, вот он — высокий и крутой восточный берег Чудского озера. И тут только в душу Хлеба закралось смутное подозрение, что нарочно военачальники пустили свинью внутрь, расступились перед немецкой дурой, чтобы, когда она ткнется в крутой берег своим глупым рылом, здесь ее обступить со всех сторон и лупить, проклятую. Но больше Хлеб уж ни о чем не мог помышлять, потому что вокруг себя он видел уже только немцев, а за спиной — только высокую стену обрыва, и понял он, что вступает в свою последнюю яростную схватку с врагом Земли Русской. И в этом жарком бою не осталось ему ни мгновенья, чтобы хоть краешком души своей подумать о том, что не видать ему уж ни первой своей жены, ни любезной второй, ни дочерей своих,
ни сыночков — Андрюши да Митяши, а лишь повстречать одну накликанную Алену Смертовну. Не зная как, выбили из рук у него зубастую немецкую дубинищу, раскололи щит, сбили с головы шлем, и ему померещилось, что еще руками и зубами способен он причинить последний вред ворогу, но с двух сторон пробили ему кольчужную грудь копьями и мечами, пригвождая к высокому обрыву берега Чудского озера. И душа Семена, выскочив из тела, в первый миг своей нежданной свободы метнулась почему-то к Кондрату Грозному, чтобы помочь ему скинуть с себя насевших со всех сторон псов-рыцарей, проскользнула по поверхностям окровавленных лат и шлемов и сейчас же начала набирать высоту, устремляясь вверх и уже оттуда окидывая своим распахнувшимся взором всю окрестность яростной битвы.
Глава пятнадцатая
С Кондратом же во все это утро и сейчас творилось нечто непонятное. Проснувшись задолго до рассвета, он пребывал в страшном возбуждении, предвкушая кровавую битву, в каковых уже десятки раз приходилось ему участвовать. И чем больше нарастало сие возбуждение, тем громче казалось ему все происходящее вокруг. Все чувства в нем обострились, а слух раньше других. Ему стало мерещиться, будто он слышит все разговоры — всего войска, располагавшегося вдоль высокого берега Чудского озера. И мало того, он слышал отдаленную речь немцев и чудичей с другого берега. Обиднее всего — он не мог ни с кем поделиться, рассказать о том, что с ним происходит, ведь ему бы никто не поверил, да еще какой-нибудь Доможир или Жидята поднял бы на смех.
Но это и впрямь творилось с ним. Он мучительно ощущал, что видит слишком много, слышит нестерпимо чутко, что каждый участочек его тела чувствует все гораздо сильнее, нежели раньше. Он чуял запахи всех коней и людей вокруг себя, и, сколь ни странно, эти запахи возбуждали в нем голод. Изнуренный Великим постом желудок стал по-звериному урчать, требуя обильной и мясной пищи.
— Да что же это со мной! — тихо ворчал он сам на себя, но и собственный голос казался ему удесятеренным, ударял в уши не только когда приходилось отдавать громкие приказания, но и когда тихо шептал что-то самому себе под нос. Конь под Кондратом, по всей видимости, чуял, что со всадником творится неладное, волновался и часто ржал, оглушая Кондрата ло
шадиными песнями.
Вот зазвучали трубы, загремели литавры, двинулось и отделилось от того берега огромное немецкое воинство — тяжелый кабан, ощерившийся копьями и мечами, топорами и дубинами, закованный в броню и одетый прямоугольными щитами. И Кондрат видел и чувствовал каждый шаг этого многотысяченогого чудовища, слышал приближение немецких и чухонских слов, излетающих из взволнованных губ.
Вот подскакал свет светлый — князь Александр Ярославич. И будто солнца луч засиял пред полками! И голос его прогремел, аки гром среди ясного неба.
— Час великий наступает, братцы! — крикнул Александр. — Не посрамим славы Русской, славы Великого Новгорода!
И конь под Кондратом сам пошел быстрым шагом, приблизился к Александрову Аеру, встал рядом.
— Дай обнять тебя, княже, — сказал Кондрат вождю Русскому.
И они обнялись, не слезая с коней, и приложились губами к губам. Губы Александра показались Кондрату холодными, как это утро, как этот лед, как эта затянувшаяся зима.
— Господь Спаситель с тобою, Кондрата! — молвил Александр и поскакал дальше. И цокот копыт Ае-ра долго еще отдавался в ушах у Кондрата, мешаясь с грохотом крови, стучащей в голове гневными молотами, ибо больше всех чувств отныне была ненависть к наступающему врагу, пришедшему к нам на землю топтать наших детей, осквернять наших дочерей и жен, жечь и грабить наши дома. Кондрат чувствовал острейшее оскорбление со стороны этой надвигающейся тучи, такое оскорбление, как будто его только что нагло отхлестали по щекам. Звуки, запахи и яркость дневного света усиливались с каждым мгновением, и, когда бесстыдно ощерившаяся свинья подошла совсем близко, Кондрат, предчувствуя сшибку, с ужасом ждал, что вот-вот раздастся грохот и голова его не выдержит и лопнет. И все существо его вздрогнуло, когда, войдя в столкновение с передними рядами чела, немецкий клин мягко и бесшумно впился в плоть русского воинства. В следующий миг Кондрат осознал, что ничего не слышно, что он не ощущает запахов и звуков, яркость утра поблекла и наступило какое-то спокойное и размеренное действо убийства. Он тихо восторгался, ибо все, что доселе столь стремительно ускорялось и разрасталось, стало замедленным и обыденным. Сам гнев его, доселе плещущийся, как морские волны, и текучий, почти летучий, стал прочным и плотным, надежным, как твердь.
Гнев стал его щитом и оружием. Вот дошла очередь до Кондрата, он деловито и спокойно вступил в битву, как деловито и спокойно начинают раскачиваться деревья, когда до них дотекает волна упругого ветра. Ни страха, ни жалости, ни сомнений, ни волнений — ничего не осталось внутри и вокруг Кондрата. Он ничего не слышал, а лишь угадывал, если кто-то из соратников обращался к нему со словами. И, отвечая, не слышал своего голоса. Никогда еще, ни в одной из многих битв, не доводилось ему испытать это великое и священное молчание смерти.
Он стоял на правой половине чела рядом с полками Ратибора и Гаврилы Олексича. Кто-то из них признал в передовых немецких ритарях обоих братьев Гей-дов — фогтов, изгнанных из Пскова, а до того правивших там неверой и неправдой. Знать, крепко обидел их князь Александр изгнанием, коли в самых передах войска своего шли они на битву. Но какова б ни была их обида, наша обида во много раз крепче, ибо не мы к ним, а они на землю нашу пришли творить беззаконие, учить нас кривой своей римской вере. Даром, что сам апостол Петр в Риме проповедовал и мученическую смерть принял.
— Обижаетесь? — ухмыльнулся Кондрат, нацелившись на братьев-фогтов. — Так вы ж ишшо моей обиды не ведаете!
Передав оруженосцу Ингварю булаву, он взял у него новый топор-звездицу, изготовленный в Новгороде знаменитым оружейником Ладом. Топор состоял из пяти лезвий, растопыренных во все стороны. Лад гордился своим изобретением, но, кроме Кондрата, никто не решился освоить эту игрушку. А Кондрат полюбил звездицу, и теперь ему не терпелось поскорее пустить ее в ход. Сначала он раскроил череп немецкому пеш-цу, бойко орудовавшему своим топориком. Двигаясь дальше, Кондрат не мог не восхититься доблестью и смелостью немцев, составлявших рыло свиньи, — здесь поистине собрались отчаянные храбрецы, с любовью и наслаждением шедшие на смертный бой. Особенно Кондрату понравился один конный молодец, который с таким упоением рубился, что с уст его слетала боевая песня, и, ничего не слыша, Кондрат слышал слова этой песни и даже, казалось, понимал их: «Wirrrreiten, undrrrreiten, undsingen…»126 И ему хотелось не как-нибудь, а по-особенному, с уважением, убить этого певца-удальца. А тот, покуда он добрался до него, уже успел допеть одну и начать другую песню.