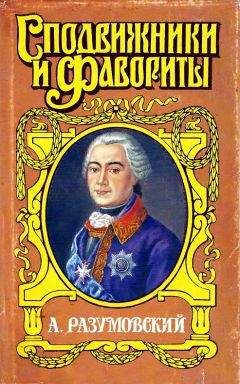Елизавета теперь каждую ночь меняла спальню, так что истинное ее пребывание знали только Шувалиха да разлюбезный Иван Иванович. Разумовский без поводыря уже не рисковал разыскивать в ночи Елизавету. У всех дверей гренадеры: стучали прикладами, «по-ефрейторски» откидывая ружья при виде фельдмаршала. Такой грохот мог продолжаться целую ночь. Гренадеры сами не знали, чего они тут торчат. Да и не будешь же их выспрашивать, хоть ты и поручик всей охранной лейб-кампании. Тем более не при мундире же — в ночном шлафроке.
Нет, только след в след за Маврой Егоровной. Мимо сидящего в полутемном коридоре, заплаканного Ивана Ивановича.
— Что, брат, и тебя вытурили?
Иван знал, что Разумовский говорит это без злости, скорее с добрым смешком.
— Вытурили, Алексей Григорьевич. Я уж не знаю, как быть? По делам университета надо бы в Москву съездить, еще куда… Но ведь истерики не оберешься. Ну, жизнь!
— Ничего, Иван Иванович, сам ты ее выбрал, вот и терпи. Однако я поспрошаю государыню, чего она тебя обижает… хо-хо нам, дуракам набитым!
Так со смешком и в спальню вошел, оборудованную на эту ночь в комнатенке одной из горничных.
Места мало, воздуха еще меньше. Да натоплено до невозможности. Накурено какими-то восточными палочками, ну и ладаном, конечно. Вслед за громоздкой кроватью по комнатам дворца таскали и киот с низовыми свечами.
— Вот так и живет императрица, — приподнявшись на локте, попробовала пошутить она. — И то ругаю этого треклятого Растрелли… Растрелли? Расстрелянный он, что ли? Иль на расстрел-то напрашивается! Ну, говорю: когда же новый Зимний дворец будет? А он: «Воля ваша, но нужны деньги». Везде — деньги!
— Да, государыня… позволите?
Она вытянула из-под собольего одеяла ручку.
— Шутник ты, право, Алешенька. С каких пор стал спрашиваться?
На это нечего было отвечать. Разве одно: с тех самых…
Но, разумеется, не сказал. Ее же собственное слово повторил:
— Деньги, да… Иду я вчера по дворцу — у одних дверей новенький гренадер стоит. Красиво стоит, каланча! А как ружье-то кинет на «ефрейторский караул»! Ну, протянул я ему золотой. Он левой рукой подхватил, ведь в правой-то ружье, зажал в лапище своей, а как разжал — там сплющенный окатыш. Смеюсь. Новый протягиваю — та же история. Он-то, стервец, не смеется: на карауле, полная строгость в лице. Так и не смог его рассмешить. Вы ведь знаете, во внутреннем кармане всегда ношу при себе деньги. Так вот, все он у меня переплющил! Может, его на монетный двор определить? Пусть давит золотишко для армии.
— Да, золотишко… — опять села, хоть и в лежачем положении, на свою мысль Елизавета. — Где золотишко-то брать? По совету Петра Шувалова уменьшили вес медных денег, а золото-то не уменьшить. По заморским купцам идет. Но этот… не расстрелянный!.. Потребовал на отделку Зимнего дворца чуть ли не с два миллиона! Слыхано ли дело. У нас война идет… Я приказала Сенату дать сто тысяч, чтоб он хоть мои-то покои отделал… нет, и эти деньги на армию ухнули!
— Моя государыня…
— …уж и не господыня?
Что делать, он был впечатлителен. Она утерла ему глаза концом собольего одеяла.
— Да, господынюшка. Я рад, что ты пребываешь в радости. Чего мне более?
— И я рада… что ты прощаешь мне, Алешенька, мои старческие утехи…
— Что за помыслы — о старости! Стыдись, господынюшка. Да к тому ж ты что-то хотела мне сказать?
Елизавета задумалась. А думать ей в последнее время совсем не хотелось. Лицо болезненно, некрасиво сморщилось.
— Ах, Алешенька, я завтра издам Указ о запрещении быстрой езды. И не больше тройки. Лошади для армии нужны.
— Но как же мне-то быть со своим вороным шестериком? — в деланном испуге вскричал Алексей.
— А ты располовинь его, друг мой. Как раз две тройки русские и выйдут.
— И то дело: одну я подарю Ивану. То-то наперегонки мы покатаемся!
— Шалун, ах шалун! — щелкнула ему Елизавета пальцем по носу. — Иди уж, катайся. Никак, светает? Ма-авра! Где ты, окаянница?
Мавра Егоровна явилась быстро, утираясь сдернутым с головы платком и в оправдание говоря:
— Жарко чтой-то.
От нее пахло вином…
Дня через четыре он зашел попрощаться и на всякий случай спросил:
— Поскольку я, моя господынюшка, собираюсь в Гостилицы, так не изволите ли и вы?
— Нет, нет, Алешенька, — не дала она договорить, чтобы не впасть в согласие. — Поостерегусь я после болезней-то. Заодно хоть и делами позанимаюсь. Поезжай ты один. Как-нибудь уж потом. По снежку да в теплых санках. Чего в такую погоду? — глянула она в окно, закутанное низко спустившимися балтийскими тучами. — Ты сам-то не передумал?
— Да нет, кони у меня добрые. Из любой грязи вылезет мой шестерик.
— Иль забыл, прелюбезный граф? Шестерики-то я воспретила Указом. Хватит и тройки.
— Помилуйте, государыня! Тройка хороша зимой, на вольное разгуляньице, а по грязи-то?.. Припадаю к ручке!
Он больше не задерживался. В карету прыг, в медвежью шубу закутался и крикнул в переднее оконце засидевшимся двум лучшим своим кучерам:
— Гони! Чтоб лошади прогрелись. И то закоченели.
Кучеров не надо было учить, что это значило. Как вылетели со двора на бревенчатую мостовую, да с криком «Пади!» — так и пошел грохот до застав петербургских. Лихо!
Быстро едешь, да не знаешь, где остановишься. У городской заставы прямо перед вспененными мордами вороных бухнулся тяжелый дубовый шлагбаум — еле сумели сдержать бег кучера. Крепчайшие воловьи вожжи на четырех-то руках и те натянулись как струны.
— Кой черт?.. — отодвинул Алексей боковое стекло.
— Имеем указ ее императорского величества! — подскочил долговязый капитан в куцем, прусского покроя, мундире. — Нам не разрешай шестериком!
Генерал-фельдмаршал Разумовский, у которого при таком внезапном стопе вышибло бокал из руки, взъярился:
— Да ты не видишь, морда, чья карета?!
— Я не видывай ничего. Указ ее императорского величества, чтобы…
Разумовский редко выходил из себя, а тут что-то нашло — швырнул пустой бокал в морду неразумному пруссаку.
— Вали! — это уже своим.
Ведь двое еще и на запятках стояли. Вместе с кучерами, вчетвером-то, да под окрик своего любимого, тороватого графа так налегли на полосатую дубовую бревнину, что с треском выломили от столба.
К пруссаку-капитану с ружьями бежали такие же прусские солдаты. Даже нешуточный залп вслед карете прогремел, чем и разогнал ненужную злость.
— Так, так, Елизаветушка! — наливая из кожаного кармана новый бокал, уже без всякой злости, в лихой веселости, по-казацки вскричал нынешний маршал. — Ты пиши указцы, а мы будем их порушать. Знай наших! За твое здоровье, дражайшая господынюшка!
Он знал, что донос о его буйстве непременно пойдет в Тайную канцелярию… но к кому? Даже грозный Александр Шувалов не посмеет тронуть его…
А ну как теперь посмеет?!
Тетушка по просьбе племянничка разрешила ему держать свою охранную голштинскую роту. Кого же они охраняют у городских застав?..
Тут было о чем обеспокоиться.
Стычка с голштинцами быстро забылась. Алексей предвкушал ясный и тихий отдых. Сам себе дивился: неуж годы? Выйдя из кареты, счастливо потянулся. На стук колес по гравийке выскочил управляющий.
— Ваше сиятельство! С приездом! Что прикажете? Не ожидали, но у нас все быстро.
— Что?.. — задумался Алексей. — Да попросту. Гостей не будет. Банька там, обычный обед.
— Пока переоденетесь да с дороги закусите, поспеет и банька. Эй, Митюха! — крикнул выскочившему банщику. — Его сиятельство изволит попариться.
Банщика по склону угора унесло к бане.
— Мсье Жак! — степенно вышедшему французу. — Обед на одну персону.
И этот с вежливым поклоном удалился.
Алексей вышел из кареты. При подъезде к парадному крыльцу, на резных дубовых столбах, был устроен крытый навес на пять карет. С учетом отнюдь не южной погоды. Снег ли, дождь ли — выходящему из кареты ни капли не упадет на пудреный парик. Алексей с удовольствием постоял, слушая, как распрягают его любимый вороной шестерик, как кучера вытирают лошадей и заводят в конюшни, а экипаж закатывают в каретный сарай. Все поодаль, за шпалерой разросшегося пирамидального можжевельника. Сиятельный глаз не должен услаждаться видом конюшен. Прохаживаясь под навесом, разминая побаливавшие ноги, Алексей посматривал вниз, на реку. Многочисленные в здешних заводях утки давно отлетели на юг, но несколько еще бултыхалось под холодным дождем. Так каждую осень: кто из подранков, кто из зубов лисицы, а кто и по привычке к этим кормежным местам. Зачем лететь невесть куда, если и здесь можно перезимовать. Так ли, нет ли думали отставшие от своих стай утки, но именно так думал хозяин. Был назначен утиный смотритель, в обязанности которого входило подкармливать уток и скалывать лед в большущей полынье. Впрочем, от бань был проложен деревянный желоб, по которому стекала теплая вода. Вот подожмет мороз — парное облако там поднимется. Как для птиц, а для человека зимняя-то баня любезнее всего.