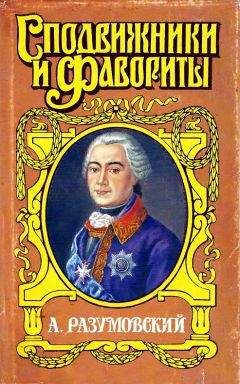Алексей налил, сел и обхватил голову руками…
— Так я еще раз спрашиваю: что тебе надобно? — вскинулся наконец решительными глазами.
— Да только счастья дочкиного, — поставила она бокал на стол.
— Какое же у нее теперь может быть счастье, коль родитель — если в самом деле так! — как козу непотребную изнасиловал!
— Дочка не жаловалась… Ласковый, говорит, граф.
— Спасибо хоть на этом!
Он налил и себе, и ей опять.
— Давай чокнемся, что ли…
Чокнулись… уж поистине люди чокнутые!
— А теперь слушай. Я дам тебе вольную. И дочке тоже. Дам деньги. Купишь дом… подальше отсюда… и на глаза мне больше не показывайся! Все дела управляющий устроит. Ступай. Что, не слышишь моего слова?
— Слышу, — наконец ответила она. — Коль жалуете так любовно… поцелуйте и меня, как дочку целовали…
В гневном безумии он исполнил ее дурное желание.
Господи, прости греховодника!
Алексей Разумовский вернулся из Гостилиц с явным намерением рассказать государыне о своем позорном конфузе. Такие истории она любила.
Но Елизавету он застал в самом жалком состоянии. У дверей ее уборной комнаты, понуро свесив голову, сидел Иван Шувалов.
— Не ходите, Алексей Григорьевич, — предупредил он. — Я уже получил нагоняй, что опять отлучался в Москву по делам университета. Еще и за меня на вас злость сорвет.
Удивило Алексея, что он как-то безлико говорит, не называя ее ни по имени, ни государыней.
— Бог не выдаст… баба не съест, — отшучиваясь, смял он конец приговорки…
Она полулежала в кресле на своем излюбленном месте. Большая, жарко натопленная комната по углам тонула в полумраке. В центре, подобно алтарю, возвышался мраморный туалетный стол; только его и освещали свечи. Здесь она проводила долгие часы в поисках призрака своей уходящей молодости. На светлый мрамор ложились густые тени от всякой нужной и ненужной посуды. Тяжелые кувшины и золотые тазы бросали красные отливы. Из полумрака в этот освещенный круг, как фурии, врывались на зов те или иные прислужницы. Много их кружило в полумраке за столом; являлись только на гневный окрик:
— Да где вас носит!
А если слишком долго торчали под локтями, эхом отдавалось другое:
— Чего костями своими тут…
Костлявых не было, дамы упитанные, да уж так выходило, под настроение.
По старым правам Алексей вошел без стука. Двери каждый день тщательно обследовались, и петли обильно смазывались конопляным маслом. Да и не топотал Алексей, знал меру в своей дворцовой походке. Но Елизавета вскинулась в кресле, и как раз в то время, когда одна из прислужниц омывала ее лицо из огненно блестевшего таза. Расплескавшееся благовоние тоже огнисто взблеснулось. Как и глаза Елизаветы, устремленные в дверной полумрак.
— Ванька, я ж велела тебе убираться!
— Алешка это, — уже крепким шагом подошел к руке.
Рука была мокрая и неприятно скользкая. Но он улыбнулся так ясно и открыто, что весь гнев Елизаветы прошел.
— Ах шалун! Напугал ты меня.
— Если так, виноват, государыня… во всем виноват!
— Да когда ж ты был невиноватый! Вот опять доносят: шестериком ездишь да в голштинцев стреляешь…
— Они в меня, государыня.
— Да? Не ранили тебя, Алешенька?..
Она иногда в приливе чувств забывала, что не наедине. Вот и сейчас, при целой своре круживших в полумраке фурий, приятно оговорилась. Значит, донос о лихой езде можно было выкинуть из головы.
— Я только что из Гостилиц, леса и долы поклон вам передают. Не помешал?
— Если и помешал, так с приятностью. Обожди маленько, я дам знать, когда покончу «государственные» дела, — с легкой насмешкой обвела она непросохшей рукой свой нынешний рабочий стол.
Поклонясь, Разумовский вышел.
Иван Шувалов все еще неприкаянно сидел на диванчике за дверями уборной.
— Ну как, Алексей Григорьевич?
— Тоже вытурила, — в утешение ему маленько приврал.
— Вот-вот. А пройдет гневная минута — искать да звать пошлет. И уж горе, если не найдут! Как жить-то дальше будем?
— А как и раньше жили, Иван Иванович. На милость не напрашиваясь — от милости не бегая. Чего ломать голову. Пойдем ко мне да посидим. Найдут, коль кто из нас двоих потребуется.
— Да, Алексей Григорьевич, — воспрянул духом Иван Шувалов. — Умеете вы утешать.
— Умею, чего ж. Особливо за столом. Воссядем себе в утешеньице. А коль позовут…
Но день прошел, и другой прошел — не звали. Его-то во всяком случае. Ивана он не выспрашивал.
Все-таки и дела неурочные. Управляющий приезжал, вольные надо было своим чухонкам подписывать. Да деньгами управляющего снабдить. Да еще подумать, как с него отчет взять, чтоб не проворовался. Ведь должность такая — тащи от хозяина, что тащится.
Им овладевало глухое отчаянье. Прискакавший опять из Малороссии братец-гетман с тревогой воззрился на него:
— Алексей Григорьевич, что с тобой?
— Наверно, старость, — с напускной беспечностью ответил. — Как там матушка?
— Болеет, но пока держится, — обнимаясь, успокоил Кирилл. — Обслуга у нее хорошая, а уж там как Бог даст. Поклоны тебе передает, на портрет, который с тебя для нее писали, с умилением посматривает. Будем разумны — годы уж… Одно не поправить: мы оба в отъезде. Я вот тоже прискакал, зная о возможных переменах… Плоха государыня?
— Как и мать, пока держится…
— Пока!
— Предугадать судьбу нельзя… Кто знает, что дальше будет?
— Что со всеми грешными бывает.
— Но мы-то? Не хотелось бы в какую-нибудь Мезень, под бок Бирону… или в Шлиссельбург. Я там дважды, братец, бывал, лицезрел зачумленного Иоанна Антоновича. Не приведи Господи!.. Так что давай за здоровье государыни.
Но не успели они и выпить толком, как зов поспешный:
— Государыня Алексея Григорьевича требует!
Значит, опять припадок. Опять истерика.
Отчуждение тяготило ее. Люди что крысы: бежали заранее с тонущего державного корабля. На голштинский корабль великого князя. Все, кому не лень, за глаза, по примеру тетушки, называли его чертушком, бывало и придурком, а в глаза-то: «Ваше высочество!..» А наиболее ретивые и прямо: «Ваше императорское величество!» Империю еще держала в своих болезных ручках Елизавета, но вот поди ж — ты!.. Когда она приказывала найти того или иного сановника, ей с язвительной жалостливостью отвечали:
— Уехали в Подмосковную!
Или:
— Совсем занемог, сердешный…
Или:
— В действующую армию укатил, сынка-воителя навестить.
А в действующей армии — полупьяный неуч Бутурлин. Понимала Елизавета, что дорого обходится России ее воспоминание о шестнадцатилетней молодости. Если Апраксин возил за собой целую орду услужающих, то Бутурлин-то превосходил его по всем статьям. Молодой, горячий генерал, истинный герой Грос-Егерсдорфа, граф Румянцев скачет самолично к нему с просьбой: «Дайте еще запасную дивизию! Мы окружили и добьем Фридриха!» А главнокомандующий, лежа на перинах в своей необъятной карете, ему отвечает: «Какой Фридрих? Мы и так его погреба захватили. Полезай ко мне да оцени винцо французское, кстати захваченное Фридрихом у Людовика, а мы вот — у Фридриха… Молодцы! Вот это и есть истинная баталия!»
Как ни далека была от военных дел стареющая государыня, но с гневом отписала:
«…Мы с крайним огорчением слышим, будто армейские обозы умножены невероятным числом лошадей. Лошади эти, правда, взяты в неприятельской земле; но кроме того, что у невинных жителей не следовало отнимать лошадей, лошади эти взяты не на армию, не для нашей службы, не для того, чтоб облегчать войско и возить за ним все нужное: оне возят только вещи частных людей в тягость армии, к затруднению ее движений… Повелеваем сократить собственный ваш обоз, сколько можно, тотчас всех лошадей в армии переписать, у кого сколько, и, оставя каждому, сколько решительно необходимо, всех остальных взять на нас; из них хорошими лошадьми снабдить казенные повозки и артиллерию…»
Но гнев ее пропадал втуне. Ни проверить, ни утвердить Елизавета ничего не могла. А без ее согласия и утверждения даже верные люди были бессильны. Не могли исполнить последнее желание больной: достроить Зимний дворец или хотя бы личные апартаменты императрицы отделать. Она давно уже хотела выехать из старого деревянного дворца, где жила под вечным страхом пожара, — насмотрелась на своем веку. Ослабевшая, часто прикованная к постели, боялась, что пламя застанет ее врасплох и она сгорит заживо. Кто ее найдет в содоме пожара?
…На этот раз Елизавета встретила «друга нелицеприятного» робкой просьбой:
— Алешенька, может, ты сам съездишь к этому расстрелянному? Ни от кого не могу добиться толку.
Разумеется, он поехал. Мэтр Растрелли принял его с отменной вежливостью, но потребовал 380 000 рублей для отделки только собственных покоев императрицы.