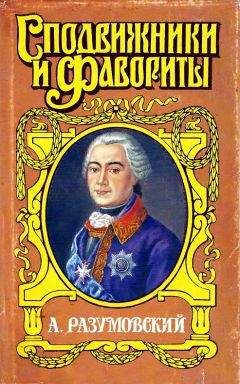— Алексей Григорьевич, — тихо предупредил он, — далеко не отходите. Даже ночью. В ночи-то особливо…
Со всем соглашаясь, Алексей покорно склонил голову.
— Надо бы предупредить великого князя и великую княгиню, но страдалица их на дух не допускает. Как мне-то быть?
— А как святая церковь говорит: все в руце Божией…
— Так-то оно так, Алексей Григорьевич. Пребудем в благой надежде.
В редких счастливых просветах Елизавета слабо, но решительно манила рукой:
— Друг мой нелицемерный… Чертушка? Его прегордая княгиня?..
Ясно, что в голове Елизаветы, даже отягченной смертельной мукой, зрела новая мысль. О престолонаследстве, разумеется. Она, кажется, клонилась к тому, чтобы изменить высочайшее завещание. Позван был новый канцлер, Воронцов, его святейшество митрополит Новгородский Амвросий и воспитатель Павла, Никита Иванович Панин. По сему случаю и Разумовский, и Шувалов, два теряющих фавор соперника, в горестном объятии удалились за «утешительный стол». Елизавета уже не могла приказать, а пригласить Разумовского никто не догадался… Или не захотел? Навязываться он не стал.
— Значит, Павел?..
— Вместо Петра-то?..
— А нам с тобой какого хрена, Иванович?
— Истинно никакого.
— Вот то-то и оно… Дожили!
Но и за закрытыми дверями ничего решено не было. Чувствовала Елизавета, даже в своем нынешнем состоянии, что крутят вокруг нее, и решительного слова не произносила… А кто его произнесет?
Так и тянулось с ноября по декабрь. Все предчувствовали грядущие перемены — и все боялись их. Пожалуй, больше других — великая княгиня; супруг-то открыто жил с Лизкой Воронцовой. А при канцлере Воронцове — это засилье лучше ли засилья Шуваловых?
Все шепотком. Все тайно. В тайной же полунощи великая княгиня и поскреблась в дверь.
— Алексей Григорьевич, — не стала она по своей доверительности к нему хитрить, — помните ли вы, как я предрекала?
В подтверждение Алексей склонил голову, зная наверняка, что дальше последует.
— Да, я говорила, в случае кончины государыни Елизаветы иду в спальню Павла, беру его на руки и отношу к вам, Алексей Григорьевич, в полной уверенности, что вы будете на моей стороне, сама же иду к моим верным гвардейцам-офицерам…
Он молчал. К чему это повторять?
Молчала и она. И после затяжного, почти слезного молчания вдруг ошарашила:
— Так вот, милый, верный Алексей Григорьевич… я не сделаю этого. Не сделаю! И не из трусости… из какой-то тайной любви к приютившей меня Елизавете Петровне. Знаю, что она меня сейчас не жалует, но я ее искренне люблю… и не могу преступить через ее волю. Да! Я все надеялась, что она сама назначит Павла наследником и… развяжет мне тогда руки. Но она не назначила… и теперь уже не назначит. Я не смогу растоптать ее тень. Императором будет, конечно, Петр Федорович, а дальше… дальше посмотрим. Тень моей благодетельницы уже не будет витать надо мной. Руки мои будут свободны. Душа очистится от внутренних обязательств… и тогда сбудется, чему не суждено сбыться сейчас! Не осуждайте меня, дорогой и верный Алексей Григорьевич. Никому об этом не говорите. Я пойду помолюсь за здоровье государыни Елизаветы Петровны…
Ошеломленный Разумовский не успел ничего сказать. Екатерина неслышным шагом выскользнула за дверь.
Молитва ли непостижимой Екатерины, крепкий ли батюшкин организм его дочери — но через пять дней произошло неожиданное улучшение.
На радостях и со слезами на глазах Елизавета вернулась даже за письменный стол, поставленный в ее малой гостиной. Последовал, в благодарение Богу, именной Указ, который повелевал Сенату освободить большое число заключенных и срочно изыскать средства, которые могли бы заменить налог на соль, очень разорительный для народа.
— Может, Господь услышит мою молитву, Алексеюшка? — совсем здравым голосом спросила она после подписания Указа.
— Услышит, Лизанька, — с трудом скрывая свое предчувствие, обнадежил Алексей.
— Ведь я, поди, обижала мой верноподданный народ. Ведь мне и в самом деле надо за него молиться?
— Если так, весь народ помолится за тебя, Лизанька. Я из первых…
— Верю, верю, друг мой… Как бы я хотела побывать в твоих чудесных Гостилицах!
— В твоих, Лизанька.
— В наших… пускай и так… Я чего-то думала об этом, пока сочиняла Указ.
— Гонцы с Указом на крыльях полетели в Сенат. Благое дело, государыня-господынюшка… А в Гостилицах мы еще погостюем на славу!
Алексей поцеловал руку и вышел, видя, что Елизавета устала и закрывает глаза.
Радужные надежды длились недолго. 22 декабря все трое лейб-медиков — Мунсей, Шеллинг и Крузе — объявили, что положение императрицы опасно. С учетом придворной деликатности это значило: безнадежно.
Иван Шувалов сидел на диване перед будуаром и, не стесняясь, в голос рыдал. Алексей Разумовский, пока еще первый камергер, положил ему руку на плечо:
— Бог милостив, Ванюша.
Никогда он его так, хоть и по праву старшего, не называл. Этот отцовский жест только подчеркнул безнадежность положения.
— Она умрет?
— Мы все, Иван Иванович, умрем. Кто раньше, кто позже…
— А как же я?..
Разумовский понимал, что спрашивает: «Как же я один-то останусь?» Но нарочно, в утешение ему, истолковал это иначе, грубо:
— А ты к новым полюбовницам пойдешь. Молод еще, не мне чета. Всякие-провсякие бабы по тебе сохнут.
Не дожидаясь, чтобы взорвался обидой тихий Ванюша, прошел дальше. Про себя-то думал: «Вот я по бабам уже отстрелялся… хоть и обер-егермейстер… Не стрелец!»
Встреча с Иваном Шуваловым отразилась, видно, на лице. Доктора пускать не хотели. Косноязычно твердили:
— Крово… течь…
— Крово… харкай…
— Кровопускай… не помогает…
Они решительно всей троицей заступили дорогу. Но кто может остановить Разумовского?
Елизавета была в сознании, но лик ее уже отстранился от земной жизни. Право, по-молодому похорошела. Подушки были взбиты высоко; она полулежала, откинувшись златокудрой головой, в которой не было ни единого седого волоса.
— Что, плачет Ванюша?
— Плачет, — не стал скрывать Алексей.
— Я послала за исповедником… полюбовник мне больше не нужен.
Алексей вздрогнул: минуту назад ведь и сам о полюбовниках говорил!
— Не рановато ли, господынюшка. Бог милостив…
— На милость Божью и надеюсь… я, великая грешница… Потому и послала за исповедником.
— Что ты, что ты, Лизанька! Какие твои грехи?!
— Великие, Алешенька. Перед тобой-то особливо… Ты прости меня, окаянную.
— Лизанька, да я-то еще больше грешен!.. — Он осекся, потому что умирающая Елизавета встрепенулась живым, прежним взглядом.
— Греши, Алешенька, коли грешится. А меня прости… и никогда не обижай Ванюшу… Обещаешь?
Он держался, но тут не смог, тоже разрыдался.
— Общая беда породнит, но ведь рано, рано об этом!..
— Не рано, Алешенька. Вон и мой утешитель…
Архиерей Дубянский, который когда-то, в Перове, и при венце их благословлял, сейчас вошел так тихо, что Алексей его и не услышал. А она вот услышала, увидела, отяжелевшую голову повернула.
— Самое время… Ступай, Алешенька.
Дубянский подходил в закаменевшем старческом полупоклоне. Взгляд его отрешенный говорил то же самое.
Алексей бросился к двери, мало думая о шуме, который неурочно поднимает.
Иван Шувалов сидел, как и раньше, на дамском игривом диванчике. Резные, растопыренные ножки и огненные шелка дивана еще больше подчеркивали его пепельно-серый вид.
— Лизанька повелела мне заботиться о Ванюше… Э-эй! — прищелкнул он пальцами пробегавшему лакею. — Заверни, братец, на мою половину да скажи, чтоб принесли чего-нибудь…
Договаривать не стоило. Лакей еще при первых словах услужливо убежал.
А через недолгую минуту и его личный камер-лакей предстал с подносом. Вышколенные люди всегда держали поднос наготове, была приятна эта быстрая услужливость. По пятам, что ли, шел?
— Молодец ты у меня, — похвалил Алексей.
— Знал, что в такое время будет потребно, ваше сиятельство, — ответствовал догадливый слуга.
Стола в прихожей, которую обычным порядком почему-то называли антикамерой, конечно, не было, только игривые дамские диванчики.
— Поставь туда, что ли, — кивнул на соседний, горевший не алым, а голубым огнем.
— Вот всю жизнь душевности у них учусь, — кивнул вслед уходящему лакею. — Ведь догадался: не венгерского, не шампанского — водочки принес. Какая сейчас шампань!
Иван Шувалов не отвечал. Зубы его вызванивали по серебру бокала.
— Плох ты, братец. Хлобыстни одним махом!
Иван Шувалов разжал губы и хлобыстнул как надо.