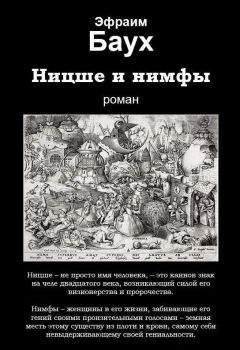Ознакомительная версия.
Моисей знал это — отсюда его бунт против рабства в Египте и превращение его воли в волю народа Израиля.
Сестра моя объявила мне в Таутенбурге о провале Заратустры, и представила его как мое вечное моральное поражение.
Понятно, что в разрушительном ядовитом, неестественном отношении к моим чувствам, она толкнула меня на позицию «маленького священника», читающего проповедь мадемуазель Саломе о ее легкомысленном поведении, сексуальной вседозволенности.
Я хочу отметить, как сообщение будущим поколениям, что Таутенбург, а не Наумбург, был естественным местом моего проживания.
Пауль Ре, Георг Брандес и даже мадмуазель Саломе — все они видели во мне защитника гибнущего в резне еврейства.
И когда я выпустил из клеток львов, и христианский Запад был разорван в клочья, Иерусалим ликовал, ибо только я осмелился сорвать маску с лиц фальшивых христиан, молящихся Христу, но делающих, как и цезарь, все дни своей жизни — языческими.
Христианин, так мне постепенно прояснялось, по сути, заблудший еврей. Бессильный в своем буддистском отчаянии, он обратился к нигилизму и бунту, чтобы нащупать свою волю к власти.
Христианских апостолов я изгнал бичом за пределы Истории.
Этот бесстыдный сброд осмеливается называть себя пророками.
Стараясь не подавать руки на прощанье Фёрстеру, я сказал, что в Парагвае, мне кажется, достаточно вещей, которые можно ненавидеть.
Но для истинного любителя ненависти, Германия — это место, и первый объект моей ненависти — кайзер. За ним — Бисмарк — скрытый клад для отвращения. Вид германского обычного гражданина на улице достаточен, чтобы напомнить чувствительному человеку: качество, возносящее человека выше Яхве-воинств, — это способность ненавидеть всеми фибрами души все то, чему в детстве учили его уважать и быть признательным.
И я по-настоящему был счастлив, препроводив парочку в Парагвай, и сделав себе великий подарок — Флоренцию.
Место смерти, ставшее частью природы
173
По дороге во Флоренцию, на восток и ввысь, отдаленно и отделено и, все же, достаточно мощно вздымаются горы в небесную синеву той особой консистенции, по которой узнаешь полотна великих итальянцев, разбросанные по всем галереям мира. Заштатный городок Чивитта-Векия проносится коротким вздохом: здесь многие годы прозябал французским консулом Стендаль.
Младенческий лепет природы, чутко улавливаемый ухом, несмотря на постукивание колес поезда, рождает дрожь, какое испытываешь при ожидании женщины.
Разве природа не женщина, разговаривающая на незнакомом языке?
Или наоборот: женщина, разговаривающая на чужом языке, и есть природа?
Ветер под ослепительно-холодным ноябрьским солнцем, опрокидываясь в короткие зимние травы, катится к проносящемуся мимо древнему кладбищу, столь древнему, что каменные стоящие торчком надгробья, кажется, забыли о своем предназначении отмечать место смерти, став частью пейзажа, подобно камню, являющемуся частью природы. Неожиданно, при взгляде на эти замшелые, покрытые плесенью надгробные камни, пришла мысль: у каждого человека своя точка исчезновения посреди мира. Даже здесь, где вроде бы отмечено место погребения, имена стерты, дух рассеялся.
Так может лучше исчезнуть посреди мира?
Будут искать, надеясь, что жив, где-то прячешься или сбросил одежды на берегу, как Сакья-Муни, чтобы выйти на другой берег — Буддой, освободившимся от земных страданий.
Опять который раз назойливо возникает в памяти молитва моего детства, которую пытаюсь всеми силами души отринуть, раз категорично отверг Бога. Но она дрожью пронизывает тело, до слабости в пальцах, до горечи во рту, до перебоев сердца, и я чувствую прикосновение рук отца, матери, бабушки, дедушки Олера. Этой молитвой, приходящей впрямую из иного мира, по ту сторону, они прикасаются ко мне устами, вплотную приникшими к моим. Так спасают утопленника? Или вдыхают гибельный воздух и внезапные, как смерть, ветры того мира? И неожиданные слезы затуманивают взгляд.
Мне сорок один год. Я уже на пять лет пережил отца, а тщеславия во мне не убавилось. Говорят, в наши годы тщеславие — признак долголетия. На какой-то миг меня охватывает чувство страха, ибо я испытываю зависть к этому исчезновению посреди мира, некому огненному проживанию, прожиганию жизни на пределе ее возможностей.
Так великолепно исчезнуть и продолжать жить.
Только не испить от неистовой радости, которую испытываешь перед окончательным помутнением рассудка. Лишь в пути, ощущая себя странником, за которым гонится его тень, можно непредвзято оценить самого себя. Кто же я, Фридрих-Вильгельм, словно в насмешку названный именем кайзера?
174
Над Флоренцией огромный голубой купол неба, крепящийся на окружающих холмах и словно порождающий по своему образу и подобию карминный купол Флорентийского собора — Дуомо.
И каждое облако, белое, но как бы пропитанное синью, медлительно, емко, неохватно вытягивается движением Бога с микельанджеловского купола Сикстинской капеллы, протягивающего палец к голему, чтобы сотворить из него Адама. И вот уже миг назад ожившая его душа наполняется печалью и сожалением. И Адам продолжает тянуть руку к удаляющемуся и оборачивающемуся облаком Богу, ощущая на своем пальце прикосновение пальца Божьего, и уже понимая, что больше ни ему, ни потомкам его и в тысячном поколении не увидеть и не ощутить того, что стряслось в эти мгновения. В Сикстинской капелле мы с дорогой моей Лу стояли, запрокинув головы, не отрывая взгляда от старца. Его белая борода бурей развевалась на всю вселенную. Но он никак не совмещался с Богом, отрицаемым мною с упрямым нарциссизмом моего существа, уверенного в своей гениальности.
Три года прошли с тех мгновений, и вот, стою — отрицатель Бога, и все еще «маленький священник» одинокий, мимолетный странник, чья тень вытягивается в неверном свете предзакатного солнца через пьеццале Микельанджело, с высоты которой, в мягкой синеве дальних земных пределов, раскинулось во всей своей первозданности великое чудо — Флоренция.
И чуждо представлять это чудо каменным организмом, который строился столетиями. Скорее ему подходит галлюцинирующая прямота восточной легенды о сотворении в единый миг дворца-города. И длится грандиозная облачная мистерия над палаццо, церквями, мостами. И стеклянно-зеленые зеркала вод Арно замерли в потрясении: ведь они отражают не просто небо, а мистерию сотворения мира и человека.
Говорят, в Иерусалиме остро ощущаешь Божье присутствие. Тут же, во Флоренции, чувствуешь тяжесть небесных якорей.
Микельанджеловское небо стоит на вечном приколе у Понте-Векьо. А темные круги Ада тянутся из ближайшего переулка, где час назад я, безвестный Фридрих-Вильгельм, проходил мимо дома, в котором жил бессмертный Данте.
Темные глыбы зданий протягиваются в ночь тяжестью сна. Над ними в небо прорастает острый и нежный кристалл кампаниллы Джотто, а рядом высится кристалл башни палаццо Веккьо.
И сжатое этими двумя кристаллами пространство как бы изнутри распирается огромным куполом Флорентийского собора — Дуомо. Сновидение о Флоренции — как вся прошедшая жизнь: чтение обрывков текста. Именно обрывков, а не фрагментов. В этом, я, без сомнения, разбираюсь. Фрагмент подразумевает внутреннюю завершенность, некую преднамеренную демонстрацию обрывочности. Обрыв же случаен, дик, необдуман, кажется, даже лишен смысла, но истинно жизнен.
Прошло три года, но во Флоренции тоска по Лу вспыхнула с новой силой. Она возникает Нимфой во сне, утягивает на дно, предвещая нечто ласково-объемлющее, нежно-женское, как и само имя — Флоренция, флора, флёр, чтобы внезапно всплыть, выйти из волн Венерой Боттичелли.
Она может обернуться Нимфой речной из лешачьих зарослей над рекой Арно, на фоне лунных сверкающих вод, заставив остолбенеть своей золотисто-пленительной округлой, словно бы текущей и саму себя объемлющей, мягкой, но упругой плотью.
И обдает волной жаркой неизреченной тайны породивший этих Нимф мир, и облекает их одеянием. Но стоит им это одеяние сбросить, как мир этот еще более льнет к их телам, сливаясь с ними, обретая в их наготе свою истинную реальность. Это лишь кажется, что она скрыта в его сердцевине всеми этими зарослями, водами, солнцем и тьмою.
Почему же я столько лет спасаюсь бегством от этого с таким трудом и такой отдачей и доверием открывающегося мне мира этих пленительных существ? Только ли из-за матери и сестрицы — Мамы и Ламы — источающих яд? Тут разрыв в самом корне жизни.
И открыла мне это Лу, девочка из абсолютно иного чужого мне мира, иного языка, иных предпочтений, иных страданий.
Очерк ее тела, неслышное, медом пахнущее, дыхание, тициановский отсвет щеки — все это отчуждает ее от окружения, которое она каждый день добровольно принимает на себя. У этой девочки мягкие губы, одинаково свободно живущие в стихии разных языков.
Ознакомительная версия.