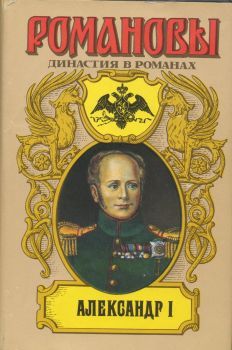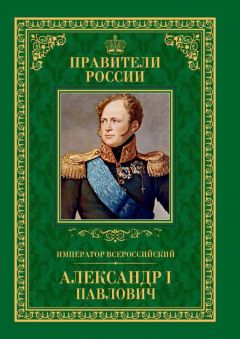Да что поэт или камер-юнкер, когда великие князья трепетали перед змием. Преображенским офицером, стоя на карауле в Зимнем дворце, князь Валерьян увидел однажды, как Николай Павлович и Михаил Павлович, тогда ещё совсем юные, сидя на подоконнике, ребячились, шалили с молодыми флигель-адъютантами; вдруг кто-то произнёс шёпотом: «Аракчеев!» – и великие князья, соскочив с подоконника, вытянулись, как солдаты, руки по швам.
Да, страшно; но под страхом – надежда.
Года два тому назад Голицын подал государю записку об освобождении крестьян и о конституции как о близком будущем, воле самого императора, с высоты престола объявленной.
О записке с тех пор ни слуху ни духу, как в воду канула. Да он уже и сам не верил в мечты свои, знал, что надеяться не на что; а всё-таки надеялся: что если государь пожелает видеть его, – он скажет ему всё – и тот поймёт.
Вспоминал портрет юного императора: белые, в пудре, вьющиеся волосы, цвет кожи бледно-розовый, как отлив перламутра, тёмно-голубые глаза с поволокою, прелестная, как будто не совсем проснувшаяся улыбка детских губ. Похож на Софью, как брат на сестру.
Иногда Голицыну снилось это лицо, и не знал он, чьё оно, – отца или дочери, – но во сне влюблён был в обоих вместе, как некогда влюблена была вся Россия в прекрасного отрока.
– Я желал бы видеть всюду республики: это единственная форма правления, сообразная с правами человечества, – говаривал государь с этой детскою улыбкою. А потом, после чугуевской бойни,[148] где проводили людей сквозь строй по двенадцати тысяч раз, – плакал на груди Аракчеева: «Я знаю, чего это стоило твоему чувствительному сердцу!»
Отец Софьи и друг Аракчеева, республика и шпицрутены, ожидание чуда и ожидание розог – всё смешалось, как в бреду, в мыслях Голицына. Чтобы отвязаться от них, лёг спать.
Дурной сон приснился: похоронное шествие; в открытых гробах – скелеты и уродцы в банках со спиртом; всё знакомые лица – старые приятели, члены тайного общества; он и сам плавает в спирту, похожий на бледную личинку, – гомункул в очках.
Проснувшись, долго не мог понять, что это было; наконец понял: профессора Казанского университета хоронили анатомический кабинет по предложению Магницкого.
Когда на следующий день, в назначенное время, к шести часам вечера, князь Валерьян вошёл во флигель-адъютантскую комнату Зимнего дворца, находившиеся там генерал-адъютанты Уваров,[149] Закревский,[150] князь Меньшиков,[151] Орлов[152] приветствовали его особенно ласково.
– За твоё здоровье, князенька, свечку пудовую: обругал подлеца как следует! – сказал, пожимая ему руку, Меньшиков.
– Воистину – гадина! – воскликнул Орлов.
– Змий! – добавил Закревский.
– Ну какой змий? Просто ночанка! – возразил Уваров и рассказал, как у одного мужика в Грузине нашли в платье засушенную летучую мышь, «ночанку», которую носил он при себе для того будто бы, чтобы извести колдовством Аракчеева; а тот засёк его до смерти, приговаривая: «Буду я тебе сам ночанкою!» Так вот и для всей России ночанкою сделался.
– И неужели же никого не найдётся, чтобы открыть государю глаза на этого изверга? – заключил Уваров.
Из приотворённой двери высунул голову с плоским, деревянным кукольным лицом адъютант Аракчеева, немец Клейнмихель.[153]
– Пожалуйте, князь!
Голицын вошёл в секретарскую, большую тёмную комнату с окнами на дворцовый двор.
У стола, крытого зелёным сукном, сидел Аракчеев. Перед ним стоял старый генерал, может быть, один из боевых генералов двенадцатого года, сподвижников Багратиона и Раевского в тех славных боях, в которых царский любимец не принимал участия «по слабости нервов». Слушая выговор, как школьник, виновато горбил он спину и вбирал голову в плечи; не видя лица его, – он стоял к нему спиною, – Голицын видел по гладкой и красной, как личико новорождённого, лысине, по вздувшейся над воротником сине-багровой складке шеи, что старик ни жив ни мёртв.
– Не думаете ли вы, сударь, отлынять от службы, видя, что у меня камер-юнкерствовать не можно? – говорил Аракчеев гнусавым, ровным, тихим, почти шёпотным голосом: нельзя говорить громко в покоях государевых. – Предписание за нумером тысяча восемьсот семьдесят третьим, которое поставило будто бы вас в невозможность исполнять обязанность вашу в точности, совсем не требует от вашего превосходительства никаких невозможностей, коих, впрочем, по службе и быть не должно…
Видно было, что может говорить так, не переводя духа, не изменяя выражения лица и голоса, час, два, три – сколько угодно.
Голицыну случалось видеть Аракчеева; но теперь вглядывался он с особенным любопытством, как будто видел его в первый раз.
Лет за пятьдесят. Высок ростом, сутул, костляв, жилист. Поношенный артиллерийский тёмно-зелёный мундир; между двух верхних пуговиц – маленький, как образок, портрет покойного императора Павла I. Лицо – не военное, а чиновничье. Впалые бритые щёки, тонкие губы, толстый нос, слегка вздёрнутый и красноватый, как будто в вечном насморке. Ни ума, ни глупости, ни доброты, ни злобы – ничего в этом лице, кроме скуки. Полуоткрытые над мутными глазами веки делали его похожим на человека, который только что проснулся и сейчас опять заснёт.
– Я люблю, чтобы все дела шли порядочно – скоро, но порядочно; а иные дела и скоро делать вредно. Всё сие дано нам от Бога на рассуждение, ибо хорошее на свете не может быть без дурного, и всегда более дурного, чем хорошего…
За окном шёл мокрый снег. В комнату вползали серые, как паутина, сумерки. И в серой паутине сумерек, в серой паутине слов была скука нездешняя, которой, должно быть, в гробах своих скучают мёртвые; страшно было от скуки.
Аракчеев кивнул головой в знак того, что аудиенция кончена. Пыхтя и отдуваясь, потный и красный, как из бани, генерал вышел из комнаты.
Голицын подошёл к столу.
– Князя Александра Николаевича племянничек?
– Точно так, ваше сиятельство!
– Ну, князь, два дела к вам… Первое: за ношение очков в присутствии особ августейших государь повелел сделать вам замечание строжайшее. Второе – касательно записки вашей…
Подал ему бумагу, на которой большими буквами, красным карандашом, его, Аракчеева, собственной рукой написано было с тремя ошибками в пяти словах: «Возвратить бумаги сии по ненадобию в оных».
– Вы уж на меня, старика, не погневайтесь, – посмотрел ему не в глаза, а в брови (никогда не смотрел собеседнику прямо глаза), и лицо его вдруг сделалось ехидно-ласковым. – Я человек простой, неучёный; как бедный новгородский дворянин, совершенно по-русски воспитан; у дьячка учился грамоте, по Часослову; мудрено ли, что мало знаю? Вот и в записке вашей – при простом уме моём никак в толк не возьму – о какой конституции писано? Сколько лет на свете живши, о том не слыхал и полагал доселе, что у нас в России правление самодержавное…
Опять нескончаемая паутина слов; опять страшно, скучно нездешнею скукою.
Вдруг встал, перешёл от стола к камину и поманил Голицына пальцем: не хотел, должно быть, чтобы адъютант слышал. Когда Голицын подошёл, взял его за пуговицу и зашептал почти на ухо, ещё ласковей, вкрадчивей:
– Я всегда, ваше сиятельство, в оном несчастлив, что обо мне дурно публика думает. Ну, да ведь и то сказать, один умный человек спрашивал: сколько дураков нужно, чтобы составить публику? Посему и не весьма опасаюсь санкт-петербургского праздноглаголания: собака лает, ветер носит. Была бы совесть чиста… Вещица сия, изволите видеть, как называется?
– Экран, ваше сиятельство!
– Экран, да-с! Ну так вот и ваш покорный слуга всё равно что экран; за моей спиной что ни делается, а моим лицом всё покрывается. Валят на меня, как на мёртвого. И ругают за всё: Аракчеев – злодей, Аракчеев – изверг, Аракчеев – гадина. А вся-то вина моя, что никому не льщу, по прямому моему характеру, да волю государя императора исполняю в точности. Что велит, то и делаю. Хоть конституцию, хоть самую республику велит – сделаю… Мне что?
«А ведь не глуп, – удивился Голицын. – Только что ему от меня надо?»
– Вот и дядюшка ваш, князь Александр Николаевич, меня, старика, не жалует: а я зла никому не помню, по закону евангельскому: любите ненавидящих вас. И в тебе, голубчик, князь Валерьян Михайлович, уверен, что ты меня полюбишь, видя, что я с тобой обхожусь как истинный христьянин…
Умолк – и веки, над мутными глазами полузакрытые, закрыл совсем, как будто забыл о собеседнике и, угревшись у камина, стоя задремал. Голицын тоже молчал, рассматривая лицо его вблизи; заметил неожиданную в этом лице странную, мягкую на раздвоенном подбородке ямочку и почему-то не мог отвести от неё глаз. Вспомнилось ему «чувствительное сердце» Аракчеева, которого пожалел государь после чугуевской бойни; вспомнилась также дворовая девка Настасья Минкина, которая в минуту нежности целовала Аракчеева, должно быть, в эту самую ямочку.