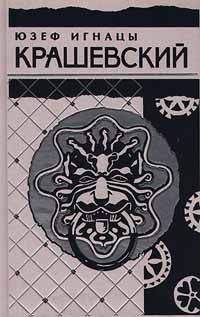class="p1">Камердинер дал знать, что сама пани ждала с чаем. Застегнув мундир, генерал вышел через комнату, отделяющую канцелярию от салона жены, теперь лицо его прояснилось.
Он знал, что там может застать чужих.
Действительно, около генеральши крутились надушенные столичные модники в белых рукавичках и стоящих накрахмаленных воротничках, говорящие с большим возмущением о манифестациях на улице, о демагогах, о красных, о несчастном расположении умов, о глубокой печали, какая пронимала всех хорошо мыслящих людей по причине, что было невозможно даже потанцевать.
Может, громче и красноречивей других говорил о том наш знакомый Эдвард, который играл там роль рьяной поддержки трона и алтаря, защитников общественного порядка.
* * *
Спустя несколько дней бедная Анна под предлогом какой-то покупки вернулась на Старый Город. Она давно уже не видела Франка; не знала даже о нём от достойной Каси, которая два дня на Подвал с корзинкой не заходила, чтобы, как обычно, донести ей о больном паныче. Сердце Анны предчувствовало что-то нехорошее.
– Всё-таки я должна его увидеть! – сказала она и побежала, осторожно оглядываясь, через Пивную улицу и знакомые проходные дома на Старый Город.
Было утро… День хороший и ясный, радость и надежда стекали с небес, на земле было как-то жарко и неприятно, по улицам пробегали люди с лицами, отмеченными удивительной заботой. Анне по крайней мере казалось, что читает на них страх и боль, может, потому, что чувствовала их в себе.
Только у двери дома она вспомнила, что её там ждёт, как обычно, кислый приём старой матери, и она нуждалась в минуте отдыха, чтобы набраться отваги. Потом быстро вбежала на лестницу, пытаясь казаться весёлой, чего в сердце не было.
Её удивило, что дверь Ендреёвой была широко открыта, а внутри она увидела старушку, сидящую на полу, с опущенной головой, с заломленными руками, прибитую, бессознательную. Кася, пытающаяся её поднять, только ходила около неё, плача сама.
Одним прыжком с порога Анна оказалась рядом с Ендреёвой. Сердце её предчувствовало большое несчастье. Дверь в другую комнату была также не закрыта.
– Ради Бога! Говорите! Что снова случилось? – крикнула она. Торговка фруктами подняла голову.
– А! А! Забрали у меня его! Убьют! Взяли… Потащили… Убийцы! – воскликнула она скорбно. – О! Тираны, убийцы! Несмотря на мои слёзы, несмотря на мольбу, несмотря на то, что я перед ними ползала, целуя ноги! Эти бездушные скоты! Эти создания, лишённые сердца, жалости! А он не застонал.
Ануся упала на пол рядом со старухой.
– О, Боже! Кто? Когда? Что случилось?
– Погляди! – добавила мать. – Кровать пустая… нет его! Потащили в цитадель, в госпиталь, на смерть… дитя моё единственное, моё любимое дитя! О, мне уже только умирать!
Долгая, смертельная тишина, прерываемая только рыданиями, повисла над этой жалобной сценой.
– Богородица свершила один раз чудо, но мы чуда Её не стоили, и вытянутую руку убрала назад… и нет его, нет!
Анна зарыдала, несмотря на душевную силу, несмотря на то, что была приготовлена ко всему; она поплелась туда, куда тянула её боль, в ту вторую пустую комнатку, в котором русские сдвинули картину в сторону, таща за собой больного. Ложе его было ещё в беспорядке, возле него валялись книжки, бумаги, карандаши, следы дней, прожитых мужественно в донимающей боли и работе.
Бедная девушка заламывала руки, но поток слёз, который тёк из её глаз, высушили гнев и возмущение; зрачки блеснули огнём; она задвигалась, точно хотела идти и немедленно его у них вырвать. Потом подумала и задержалась ещё, как бы прощаясь с этой комнаткой, в которой несколько мимолётных, украденных минут она провела у ложа приятеля. Пришли ей на ум последние его слова, предчувствия, страхи.
Ендреёву с пола поднять было невозможно; погружённая в отчаяние, прибитая им, неподвижная, она переставала на минуту плакать; но после этого короткого онемения её сотрясали стоны и резкая боль.
Анна почувствовала, что её место было у бока несчастной матери. Вместе со служанкой она подняла старушку, посадили её на стул; но бедняга головой ударилась о стол, закрыла лицо, постоянно плакала.
– Дорогая пани! – сказала ей тихо Анна. – Взгляни, взгляни на Распятого, на скорбящую Мать и опомнись. Он вернётся, они должны нам его отдать. Сохрани себя для него, мы спасём его!
– Спасти? Как же спасти? – спросила женщина. – Разве они понимают человеческий язык, человеческую боль, стон матери? Разве уважают раны, слабость и всё, что люди привыкли уважать? Они меня упрекали, когда я за него просила… Они смели глумиться над моими седыми волосами. Пойти к ним – это приумножить их победу, а себе прибавить унижения.
– Но как же это случилось? Когда? – спросила Анна, желая отвлечь старушку скорбным рассказом.
– Пришли, как разбойники, ночью, потому что стыдятся белого дня; выбили дверь, как жулики, схватили его с насмешкой, с жестокостью. Он не сделал гримасу, не застонал. Утешал меня ещё, был спокоен.
– Всё обыскали! – добавила живо Кася. – Даже мой сундук, дорогая панинка, ища какие-то бумаги, перерыли всё до мелочи. Отцепили образы, распороли стулья, порвали матрасы…
– Нашли что-нибудь? – спросила Анна ослабевшим голосом.
– Что они могли найти! Разве он ребёнок! – ответила Ендреёва. – Пожалуй, нужно разорвать грудь и из неё достать, что там скрывается; но если бы даже разорвали сердце, лишь с жизнью вынули бы остатки чувства.
Боль делала старуху (начитавшуюся священных книжек) красноречивой. Анна плакала снова, но обе не знали, что делать; когда на пороге опять показался какой-то господин в вицмундире, с выбритым лицом, вежливый, кланяющийся, гладкий, приятный и полный выражения сочувствия, которое, входя, надел на лицо, для лучшей игры в комедию.
– Ведь Ендреёва? – спросил он потихоньку самым вежливым образом.
Старуха подняла голову, он ещё раз поклонился, подошёл ближе, посмотрел в лицо, аж до красноты изрытое слезами, и сложил руки.
– Уважаемая пани, – сказал он, – что же это за отчаяние? Ради Бога, успокойтесь. Хотя я незнакомый, зная, какой случай вас затронул, пришёл с добрым советом.
Женщина молча уставила на него глаза, а любезный человек говорил дальше мило и сладенько:
– Не пугайтесь так, пани, ваш сын может быть легко освобождён. Я, как вы видите, урядник, это неприятная сегодня обязанность, но на любом месте с человеческим сердцем можно быть полезным братьям.
Он закашлял, как бы это фразой подавился.
– Увидев вашего сына, охваченный жалостью, я тайно сюда прибыл, – говорил он дальше, – постарайтесь, пани, с ним увидеться, это не невозможно, склоните его, чтобы не скрывал, не упирался напрасно. Правительство отлично осведомлено, что здесь были сходки и совещания, эти детские покушения с мотыгой на солнце… потому что, к чему