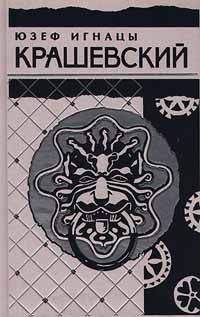службы, неприятный запах которой наполнял испарениями табака, водки и лука этот вход; несколько плащей висело на крючках. Казаки имели ту осторожность, что, прежде чем их тут повесили, обыскали карманы, не было ли в них того, что могли бы поменять на табак, водку и лук.
В другой комнате, о которой мы вспомнили, широкой, пустой, обставленной лавками и несколькими плетёными стульчиками, на стене, некогда декоративно украшенной гипсовой лепниной, были прибиты простые часы с гирей, кукарекающие долгие часы ожидания. Они показывали одиннадцать, но имели обыкновение спешить.
Там в разных позах и как бы стыдясь друг друга, сидело несколько особ, которые тихо заходили, опасаясь быть замеченными, и незаметно выскальзывали. Из них по одному призывали в следующую комнату, остальных оставляя ожидающими в углу.
Глубокая тишина царила в этой приёмной власти, в которой подполковник жандармов, какой-то оборванец, пара модников и несколько фигур, не поддающихся определению, скрытых в тени, сидели, стояли и слегка вздрагивали.
Из соседнего салончика иногда долетал сюда громкий голос, который, словно невольно возвысившись, тут же сдерживался. Этот салончик был немногим более нарядный, чем комната ожидания, украшенная только необходимыми предметами: софами, парой длинных столов и несколькими разнообразно выкрученными стульчиками. Одна лампа стояла на круглом столе, полном бумаг, другая, поменьше, на боковом столе, где какой-то склонившийся господин в потёртом фраке писал быстро и неспокойно.
По салону прохаживался мужчина средних лет в генеральском мундире без погон, с сигарой во рту. Его фигуру было сложно описать, потому что в ней не было никаких особенных признаков: лицо потёртое и обычное, глаза погасшие и бледные, кожа лица жёлтая и увядшая, лысоватый – это отсутствие физионогномики почти всегда встречается в слугах деспотизма, заранее склонённых к ярму; смолоду стёрли с них человеческий знак, всякое независимое слово искреннего чувства, всякую искорку жизни – это лица евнухов на душах мясников.
Ничему людскому объявиться на них не разрешено, кроме немого, холодного послушания. Если поглядите на этих людей, есто увидите в них только апатию, холод и заученную пустоту.
Если кто-нибудь из них имеет что-нибудь в себе, внимательно следит, чтобы на верх из него не вышло. Слуги деспотизма должны быть такими, чтобы словом людской независимости не поражали панских глаз. Сперва угнетаемые и мучимые, они формируются в такую массу, в которой отдельного человека нет, все обтёсаны под одной мерке, равные друг другу – инструменты.
Когда одного из них убивают или выгоняют, его легко заменить другим запасным; тот принимает роль предшественника и надевает скроенную на того ливрею – всё хватает, дыра залатана.
Прохаживающийся генерал имел именно такое лицо, только что человеческое, но совсем не значительное. Долгая жизнь, которой дослужился до высокого ранга, научила его сгибаться, лгать, отказывать себе, чтобы никого не поразить, никому не мешать, а идти всё выше, подталкиваемый всеми. Только в деспотизме такая низость идёт высоко, таланты, более самостоятельные – падают раздавленные; поэтому, когда придёт минута опасности, ему не хватает сил, не хватает людей, которых только независимость создаёт.
Генерал курил сигару, долго думал, задумчиво перелистывал бумаги на столе, пожимал плечами, наконец взял поданную канцеляристом бумагу и отправил его жестом руки. Секретарь тихо вышел, генерал стоял и размышлял ещё. Несмотря на застывшее лицо, когда остался один, на нём были видны живые признаки нетерпения и гнева. Потом словно что-то припомнил, открыл дверь в ту приёмную, в которой был запас ожидающих, и кивнул одному из них, оставляя остальных на потом.
Впущенный в салон был вицмундирный человек; жизнь смяла его лицо и стёрла с него всякое выражение, так же, как у генерала; его подбородок был выбрит до волоска, у него были блестящие, красные, глупые, надутые щёки и также лысоватая голова.
Особенным свойством этих урядничьих лиц есть качество эластичности; они чрезвычайно легко переходят на две крайние официальные мины. В отношении к вышестоящим эти лица с покорностью расширяются, сплющиваются, растягиваются, становятся самой пунктуальностью и унижением; в отношении с низшими – удлиняются, вытягиваются вверх, становятся гордыми, становятся высокомерием силы и могущества.
Часто на пороге комнаты, которая отделяет подчинённых от начальников, происходит эта внезапная метаморфоза лица со сладко улыбающегося, широкого, на длинно-вытянутое, суровое и надутое величием.
Вместе с лицом меняется голос и физиономия. При начальнике голос тихий, бархатный, мягкий, шея – склонённая и выпрашивающая ярмо, человек кажется гибким, так, что, кажется, можно бы положить его в карман, и не мешал бы в нём больше, чем батистовый носовой платок; при подчинённых голос становится сухим, грубым, решительным, а физономия – твёрдой, деревянной и непреклонной; чувствуешь, что проглотить его не сумеешь, стал бы тебе костью в горле. Каждый хороший, опытный урядник имеет два таких лица для своей службы, другого выражения в нём не найдёшь, он такой и в личной жизни, мир для него делится на сильных и слабых, для первых лицо делается широким, для других длинным – вот вся техника их жизни, чудесно простая.
Прибывшему генерал не кивнул головой, был зол: прибывший сделался маленьким, мягким.
– Ну? Есть что-нибудь? – спросил генерал.
– Что бы такого уж серьёзного, ваше благородие, ничего, – маленькие вещи, глупости только.
– Есть какие-нибудь имена?
– Нет… сегодня как-то… мы только знаем, что студенты.
– Что мне там ваши студенты, – прикрикнул генерал, топая ногой. – Студенты! Здесь весь народ в заговоре, все к нему принадлежат… а вы нам пихаете в горло детей. Вы слепы, никто из вас ничего не знает, не видит, не понимает, или и вы, может, тайно принадлежите к заговору. Каким образом они знают всё, что делается у меня, здесь… в кабинете, на этом столе, а вы ничего?
– Господин генерал, на это нужно время.
– Но у вас было время, вы набрали достаточно премий, денег и ленточек. Мы были послушными, толпы обнаглели, улица; а сегодня этого уже схватить невозможно. Откуда это идёт? Как?
– Ваше благородие, – сказал с покорностью урядник, – это всё течёт из-за границы.
Генерал остановился и замолчал. Нужно знать, что российские урядники, желая создать иллюзию, что вся Польша к ним расположена, кормится постоянным возложением вины за всякие волнения на заграничное подстрекательство. В их убеждениях только та разница, что всякие – берги, – бурги, – маны и люди немецкого происхождения возлагают это на Францию и Англию, а русские – на немцев, на коварную и хитрую Австрию, даже на Пруссию, желающую опереться на Вислу.
– Но всё-таки, вы… вы, – добавил генерал, без недомолвки добавляя эпитет, которого мы не повторяем, – вы должны смотреть, кто и как приезжает из-за границы.
Чёткое слово не обидело урядника, сделало его только