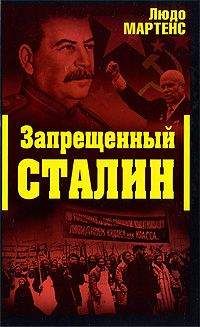Фраделиусу стало стыдно, и он поспешил оправдаться:
— Я не говорю, что не люблю Прагу, но… Родина ученых — весь мир. Если бы я был профессором в Сорбонне, я любил бы Париж, и судьба французов меня так же интересовала бы, как интересует ныне судьба чехов…
Есениус, сильно взволнованный, прошелся по комнате и вернулся к Фраделиусу:
— Нет, Петер, я не верю, не могу поверить, чтобы тебе было все равно, живешь ты в Праге или в Париже… и что тебе безразлична судьба чехов. Возможно, прежде и я бы так же ответил. Для меня Падуя или Виттенберг не отличались раньше от Праги. Ведь я относительно с легким сердцем переехал из Праги в Вену. Но в Вене понял, чем для меня стала Прага. Когда я был в Праге, меня не тянуло в Виттенберг. Но, когда я переехал в Вену, я почувствовал себя как в изгнании и все время тосковал по этому прекрасному городу над Влтавой. Прага стала моей настоящей родиной. Я не знаю, как тебе лучше объяснить это, но думаю, что во мне отозвался голос крови. Горное Ясено далеко от Праги и речь людей в горной Венгрии отлична от речи пражан, но все равно: когда я в первый раз услышал чешский язык, на эти звуки отозвалось что-то в моем сердце, как будто бы с самого дна выплыли воспоминания… И сразу я почувствовал себя здесь как дома. Ты понимаешь, раз я так привык к окружению — нет, точнее — я слился с ним, как капля сливается с морем, — меня стали радовать радости этих людей и печалить их заботы, я чувствую себя одним из них. И поэтому я не очутился в тупике, Петер, как это случилось с тобой. Если сражаться придется не только словом, я готов к этому.
Он положил Фраделиусу руку на плечо и сказал сердечно:
— Подумай, Петер. Я не верю, что мы окажемся в противоположных лагерях. Мы должны быть вместе.
Фраделиус смотрел на ректора, как будто бы не верил искренности его слов. И, чтобы рассеять свои сомнения, спросил прямо:
— Ты хочешь, следовательно, соединить не только судьбу академии, но и свое будущее с судьбой чешского мятежа? А ты понимаешь, что в случае неуспеха это может стоить жизни?
Ректор в упор посмотрел в глаза проректору и решительно ответил:
— Да, я твердо решился. И не говори о мятеже. Это справедливая борьба. Речь идет о лучшем, что есть в этом королевстве, о душах, об их спасении, о доблести, которой всегда отличался народ чешский среди других народов. Я верю, Петер, что и ты пойдешь с нами. И надеюсь, что ты поддержишь план, который я хочу предложить на ближайшем ректорском сенате: чтобы и мы, академия, призвали к оружию наших крепостных и поддержали таким образом сословия в их борьбе против Фердинанда.
— Ваша магнифиценция, университетское ополчение готово.
Педель стоял по стопке «смирно», как будто сам был солдатом, и это впечатление усиливалось тоном, каким отдавал он рапорт.
— Позови проректора и всех профессоров, — сказал ректор
— Проректор и профессора готовы; они ждут вашу магнифиценцию, — так же по-военному ответил педель.
— Хорошо, сейчас иду.
Во дворе Главной коллегии ждали только прихода ректора. Это было событие весьма выдающееся в жизни университета, поэтому во дворе, кроме профессоров и студентов, собрались все служители и соседи университета. А сорванцы сбежались со всей Железной улицы.
Посреди двора стояло четверо крестьян. Выстроившись в ряд, они хмуро глядели перед собой. Это были крепостные университета, которые пришли в Прагу, подчиняясь приказу о всеобщей воинской повинности. Общины должны были послать на каждые шестнадцать домов по одному ополченцу. Ополчение составляло часть наемного войска сословий.
Из крепостных общин университета пришли эти четверо, которые и предстали сейчас перёд ректором для того, чтобы он убедился, в каком они состоянии и смогут ли они достойно охранять интересы университета и сословий.
Это и был «мунштрунк». Чешский язык в те времена был в значительной степени пересыпан немецкими выражениями, а что касается слов военного обихода, они почти все были немецкими.
В зале к ректору присоединились профессора, а потом вся процессия медленным, торжественным шагом спустилась во двор. Студенты и соседи расступились, пропуская профессоров.
Временный командир ополчения, какой-то усатый студент, который служил раньше в наемном войске, скомандовал:
— Смирно!
Крестьяне, сгорбленные от работы и нужды, с трудом выпрямили спины и попытались выполнить команду.
Есениус обошел свой «гарнизон».
Картина, увиденная им, отнюдь не казалась обнадеживающей. Все четверо были уже немолодые люди, с худыми, морщинистыми лицами. Одеты кто во что горазд. На головах старые, заржавленные шишаки, в руках оружие: у одного — ружье, у другого — самострел, у третьего — алебарда, вооружение же четвертого составлял обыкновенный шест. Двое затянуты в кольчугу, надетую прямо на заплатанные кацавейки. Обладатель ружья красовался даже в каком-то военном мундире. А на четвертом ничего военного не было, по виду он больше походил на лесоруба.
В руках сильных мужчин и такое вооружение полезно, но что будут делать с таким старьем эти немощные старики, которым больше пристало бы возиться с внучатами, чем воевать!
— Почему пришли именно вы? — спросил Есениус самого старшего, голова которого, как грушевое дерево в мае, была вся белая. — Вы сами вызвались? Разве у вас нет мужчин помоложе и посильнее?
При его словах, произнесенных миролюбивым и сочувственным тоном, и остальные «солдаты» придвинулись ближе.
Седой старик горько усмехнулся:
— Кто же пойдет добровольно? Да и какой из меня солдат? Полвека назад я воевал против турок, но тогда было совсем другое дело. А теперь? Рихтар приказал идти, что делать? Те, кто помоложе, должны работать. Даром говорил я, что стар, немощен.
— И со мной так же! И у нас так было? — вмешались и остальные. Они забыли про построение, обступили Есениуса и стали жаловаться.
Командир не решался прикрикнуть на «солдат», поскольку сам ректор допустил такое грубое нарушение дисциплины. Он только подавал им знаки, приказывая снова стать в строй.
Есениус заметил знаки командира и смутился. «Мунштрунк» превратился в выслушивание жалоб. А ведь дело важное.
— Вот что: закончим «мунштрунк», потом придете в масхауз, и там поговорим.
Командир счел момент удобным, чтобы вмешаться. Он отдал приказание, и крестьяне постарались принять самые воинственные позы. Слова ректора ободрили их. «Мунштрунк» кончился.
Возвратившись с профессорами в университет, Есениус попросил их, если им не трудно, принять участие в чрезвычайной беседе, на которой он хочет поговорить с университетским ополчением.
Крестьяне оставили оружие в прихожей, не выпуская из рук шишаков.
Старик, с которым перед тем разговаривал Есениус, и теперь выступил вперед, чтобы говорить за остальных.
— Ты сказал, что в ополчение тебя назначил рихтар, — начал Есениус, — и что молодых, сильных мужчин оставили дома, потому что они нужны для работы?
— Истинно так, ваша милость, — подтвердил старик, а остальные дружно кивнули.
— Ведь только мы, крепостные, должны исполнять все повинности, — вмешался другой, тощий и длинный, с бельмом на глазу. — Господа и кто побогаче дают выкуп, а мы — свою шкуру…
— Да уж какой там выкуп! — воскликнул третий «солдат», невысокий, растрепанный, с лохматыми бровями. — Они только напишут, что, мол, дадут столько-то и столько-то денег, а сами не дают. Говорят, господа задолжали вербовщикам кучу денег. Даже представить трудно, какая это сила. Ежели какой бедняк задолжает оброк, так уж пристав непременно заявится и возьмет все, что есть, а ты подыхай с голоду. Такая нынче жизнь.
Профессора молчали. Что они могли сказать? Университет должен был представить ополченцев — разве они отвечают за то, что рихтары послали именно этих бедняков?
— Покорнейше просим вашу милость, отпустите нас домой, — стал просить самый старший, который, очевидно, был самым смелым. — Мы немощны, дома у нас семьи, внуки… Да и по работе мы кое на что полезны. Дома мы еще что-то сделаем, а на войне от нас какой прок?
Тут уже все стали жаловаться хором.
— Но согласитесь, добрые люди, что университет должен представить кого-то в ополчение.
Крестьяне склонили головы. Никто не решался сказать, что университет может отделаться выкупом. И профессора тоже молчали — дубовый, окованный железом сундук, вмещающий университетскую казну, был пуст.
Только Кампанус подошел к делу с другой стороны.
— Каждый из нас в эти времена должен приносить какие-то жертвы, — произнес он. — Ведь мы защищаем истинную веру господа нашего Христа, который пожертвовал своей жизнью за нас всех. Жертвы, которые мы приносим во славу его, — только малая мзда за всю его великую любовь к нам, грешникам.