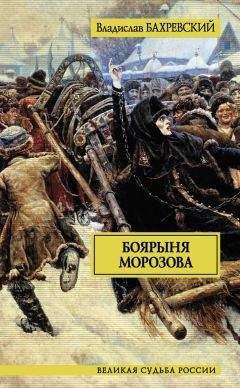Ознакомительная версия.
Слава богу, встретила в Благовещенской церкви Татьяну Михайловну. Царевна Керкире обрадовалась, к себе позвала. Выслушала. Повела к Наталье Кирилловне. Повесть пришлось повторить: и о мурашкинских бедах, и о вшивых обитателях морозовских палат. Татьяна Михайловна, не жалея добрых слов, рассказала о чудесной стряпне Керкиры.
– У Федосьи Прокопьевны какая теперь стряпня! – покручинилась знаменитая повариха. – Дворне лишь бы щи жирные да чтоб из костей мозги выколачивать. Сама-то блажит, сухарик окунает в святую воду.
– А что же Иван Глебович кушает? – спросила Татьяна Михайловна.
– Юшку стерляжью. Молодой, а здоровьем некрепок. Привередным назвать нельзя, но всего-то он опасается. Ложку в уху помакает, помакает, осетровым хрящиком похрустит, куснет хлебушка, выпьет глоток-другой взварцу – и отобедал.
– А Федосья Прокопьевна куда же смотрит?! – рассердилась Татьяна Михайловна.
– На иконы. Дом сей велик, молятся в нем истово, но никого-то не любят. Ушла бы аз в Мурашкино, да все там разорено. Подругу мою и хозяйку чуть было в срубе не сожгли. У нее воры корабли забрали, и она же виновата…
Наталья Кирилловна глянула вопросительно на Авдотью Григорьевну. Супруга Матвеева тотчас и предложила:
– Не поглядишь ли, сударыня, как мы живем-можем с Артамоном Сергеевичем? Если придется по сердцу – милости прошу. Артамон Сергеевич, случается, иноземных послов в гости зовет.
– Небось, брезгливые! Ложки платками протирают! – усмехнулась Татьяна Михайловна.
Авдотья Григорьевна засмеялась.
– Пожеманятся-пожеманятся, а потом за обе щеки уплетают!
– Только ангелы с неба не просят хлеба, – сказала Керкира. – Раздразнить охоту к еде нужно запахами. Иноземная еда – два грибка на тарели. А введи в раж – и поросенка съедят, и косточки обсосут.
В тот же день очутилась Керкира в доме Артамона Сергеевича. Комнату ей отвели светлую, теплую. Кухня изумила чистотой. Всякая вещь свое место знает. На стенах для кухонного обихода шкафы, чтоб ничто не пылилось.
Нерусский обиход, но Керкире порядок понравился. Приготовила обед – к столу позвали. Жалованье стряпухе Артамон Сергеевич назначил, как ротмистру. Да еще спросил: не мало ли?
– Помилуй тебя Бог! – изумилась Керкира. – За что такая награда?
– Красная еда, – серьезно объяснил распорядитель посольской печати, – отворит замкнутое сердце скорее, нежели красное слово. Будем вместе трудиться на благо Московского царства. Завтра у нас обедает священник из Малороссии. Ах, если бы он расчувствовался за столом-то!
– Пампушек напеку! – решила Керкира.
И таких наготовила пампушек – батюшка прослезился: уважают, а потому и сам преданность выказал.
Призадумался Артамон Сергеевич: добрая еда и впрямь службу служит.
Керкира обрела покой и даже почет, но в эти же самые дни решена была судьба Федосьи Прокопьевны.
На Иоанна Златоуста после службы царь позвал в Столовую палату патриарха Иоасафа, бояр и ближних людей. Потрясая полоскою бумаги, говорил святейшему пастырю слова укоризны:
– Се неистовое послание получил я от распопа Доментиана. Я – великий государь святой Руси, помазанник Божий – для сего безумца есть рог Антихриста, а ты, отец, архипастырь мира православного – по слову ненависти – сосуд лжи, подбрех. Доментиан сказал «слово и дело», его везли в Москву, а он от стрельцов бежал, оставя сие послание. И где бежал-то! Из Сергиевой лавры, из-под носа святой братии! Нашлись потатчики! Невелика беда, коли бы узника хлебцем подкормили. А вот на волю отпустить хулителя царя, патриарха, святых наших соборов – воровство и бунт. Сыскать бы жалельщиков – да в сруб!
Царь поднялся со своего места, подошел к горящим свечам, поджег свиток, бросил на пол. Все глядели, как корчится сгорающая на глазах бумага.
– Всех неистовых – на плаху, в сруб! Довольно уговаривать! Наше доброе они смелы попирать бесстыдно. Мы их терпим, а они нас – нет.
Царь наступил на сгоревший трупик Доментианова послания.
– Великий государь! – сказал Артамон Сергеевич. – В городах народ за старую веру не держится.
– Не за веру, за обряд, – поправил патриарх Иоасаф.
– Прости, святейший, – за обряд. Все недовольные по лесам разбежались.
– Вот и спалить их вместе с лесами. Дух противоборства – от Сатаны. Довольно с нас одного Разина, другой не надобен.
Поднялся сидевший рядом с патриархом архимандрит Чудова монастыря Иоаким, поклонился государю, поклонился святейшему, Думе.
– Над матерью Церковью не в берлогах вижу глумление, но в самой Москве. Расстрига протопоп Аввакум оставил духовных чад в таких домах, куда даже владык на порог не пускают.
– Ах, на порог! – закричал Алексей Михайлович, привскакивая на своем высоком месте. – Ах, на порог! Да мы ее из дома – прочь! О Федосье Прокопьевне говоришь? Я было разорил ее, да сердобольных много. Мы им кушанья, вина фряжские, а они в нас – говном своим! Завтра же идите к ней, и пусть сама решает. Или с нами, или – прочь со двора. Тюрьма по Федосье навзрыд плачет. Тебе, святейший, решать, кого пошлешь к боярыне Морозовой. А ты, Артамон Сергеевич, думного дьяка укажи.
– Великий государь! – поднялся князь Юрья Алексеевич Долгорукий. – У меня в Стрелецком приказе есть человек, коего никакими хитростями не проймешь… Думный дьяк Иванов, Илларион.
– Добрый слуга, – согласился государь.
– Архимандрит Иоаким к боярыне пойдет, – решил патриарх.
Алексей Михайлович тяжело вздохнул:
– Эх, Федосья Прокопьевна! Вот времена! Бабы царям перечат! Худой славой себя тешат. А царь-то, он ведь лев. Жахнет лапой – и мокрое место.
Посмотрел на бояр строго, но губы горько сложились. Хотел радовать и народ, и царство, а жизнь то один шершавый бок подставит, то другой – и оба в гноище.
* * *
День апостола Филиппа в доме боярыни Морозовой начался задолго до зари. Молились как всегда, но насельницы приметили: в глазах инокини-боярыни слезы стоят, не проливаются. Федосья Прокопьевна совсем уже Феодорой стала.
После службы все обычно расходились поспать. На этот же раз Феодора пригласила всех на трапезу. Блюда были поставлены хоть и постные, но обильные, обеденные. Ели монашенки неторопко, строгая постница Елена так и вовсе только прикасалась губами к кушаньям.
– Насыщайтесь! – сказала Феодора со строгостью.
И, видя, что охоты к еде у стариц не прибыло, глянула на Меланью. Та поднялась, прочитала благодарственную молитву. Феодора поклонилась инокиням до земли.
– Матушки мои! Пришло мое время. Разлетайтесь! Подальше, подальше от сего дома. Да сохранит вас Господь! А меня, грешную, благословите на Божие дело. Помолитесь, поплачьте. Да укрепит мя Господь ваших ради молитв, ежи страдати без сомнения о имени Господни.
Вспугнула стаю: кончилась покойная жизнь. Заметались матушки. Меланья спросила боярыню:
– Не позволишь ли взять недоеденное? Кто и где теперь накормит нас?
– Берите! – сказала Феодора. – Слуги мои котомки вам собрали. У кого шубы нет али плоховата – в людской выберете по себе. Шубы овчинные, но крытые. Там и валенки на всех.
Комнатные Анна Соболева да Ксения Иванова каждой старице подали варежки. Тяжелехонькие. В правой – по десять рублей серебром – большие деньги, в левой – по десяти алтын. Меланье, матери духовной, Феодора пожаловала сто рублей, шубу лисью, дала и лошадей, наказала слугам до Калуги матушку довести.
* * *
Еще не рассвело как следует, а боярыня, обернувшись из Феодоры Федосьей Прокопьевной, уже готова была к нашествию царских приставов – сестрица Евдокия Прокопьевна с вечера оповестила о грозящей беде. Но вот уж и солнышко взошло, позднее, зимнее, – не тревожили. Иван Глебович сел трапезничать.
Федосья Прокопьевна подступила к нему со словами заветными, приготовленными в бессонные ночи:
– Чадо мое драгоценное. Вчера духу не набралась сказать тебе о злой напасти, иже стоящей за дверью дома нашего. Царь указал наслать на нас архимандритов с дьяками. Защитница наша, добрая душа Мария Ильинична, плачет по нас на небесах. Увы! Михалыч-то, кобелясь, забыл о ней.
– Матушка, ну зачем ты о государе говоришь нелюбезно?.. Я, чай, во дворце служу. Не видят мои глаза ни злодейства, ни лукавства. Государь честно живет.
– Твоя чистота хранит тебя от зверя, живущего в кремлевских палатах. Сатанинское лукавство в ризы рядится золотые, слепит белизною. Но недолго ждать: царство русское повергнется вскоре во тьму кромешную. Одни купола с крестами в свету останутся.
– Ты хочешь, матушка, чтоб я перекрестился, выставив перед царем два перста? А потом – в яму, к дружку твоему, к распопу Аввакуму!
– О! О! – вскрикнула Федосья Прокопьевна, словно в сердце ее укололи. – Хочу, чтобы ты жил счастливо, покойно, детишек бы наплодил. Ты один – Морозов… Но могу ли пожелать тебе, янтарю, внукам и правнукам адской геенны?
– Что же патриарх Иоасаф, а с ним и вселенские патриархи не страшатся складывать воедино три перста? А владыки? Ни единого нет, чтоб ваше супротивничанье благословил.
Ознакомительная версия.