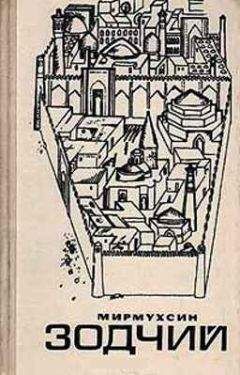— Уведите эту драчливую курицу и оторвите ей голову! — крикнул нукерам взбешенный Абусаид.
Нукеры схватили Бадию, скрутили ей руки и поволокли к выходу.
Ее вновь бросили на арбу, вывезли из цитадели и ввели в пустой двор. Один из нукеров выхватил саблю и в мгновение ока отсек ей голову. Жестокие воины Абусаида убили самую прекрасную на свете женщину. Они убили сраженную горем мать, сердце которой разрывалось от мук и боли. О, сколь несчастливой оказалась твоя доля, Бадия!
Старики похоронили Бадию рядом с Зульфикаром и Меморбеком. А через два дня отошла в мир иной и Масума-бека…
В те дни вся Бухара хоронила и оплакивала покойников.
Среди народа прошел слух, что Абусаид принес городу беду…
А Ходжа Мухаммад Порсо, которому бухарцы дали кличку «старый ворон», благоденствовал по-прежнему. Он пришелся ко двору новому хозяину города и стал ближайшим его советчиком.
А вскоре прибывший из Самарканда вельможа привез весть о том, что Улугбек-мирза признал Султана Абусаида, считает его подлинным тимуридом и что он все равно собирался в самое ближайшее время отозвать Шаха Малика-тархана в Самарканд и назначить на его место Абусаида.
На торжественном приеме в цитадели прибывшему с этой радостной вестью вельможе вручили златотканый халат и с почестями проводили в Самарканд.
— Вы идете правильным путем, — сказал Ходжа Мухаммад Порсо, без которого Абусаид теперь не мог и шагу ступить. — Одним выстрелом вы убьете двух зайцев. Народ поуспокоится, а Улугбеку будет не до нас. С одного бока его зажимают в тиски Абухаирхан и Барак Углон, с другого — сыновья. Его не интересует Бухара, он считает, что хоть здесь по крайней мере тишь и гладь. А вы тем временем соберетесь с силами и в один прекрасный день двинетесь на Самарканд, предъявите свое законное право на трон деда.
Абусаид ласково улыбнулся шейх-уль-исламу. Этот человек умел выразить все его затаенные мысли четкими и недвусмысленными словами.
Прошел год. Бухара, казалось, и впрямь поуспокоилась.
Каждый четверг Наджмеддин Бухари вместе со своим малолетним правнуком Низамеддином приходил на кладбище навестить дорогие ему могилы. Он долго сидел здесь, читал коран, тоскуя и оплакивая своих родных, которые покинули сей мир, оставив его, осиротевшего и беспомощного старика.
А потом зодчий брел на другое кладбище, отведенное для чужеземцев, и читал молитву у могилы Заврака, Гавваса, Абуали и всех остальных своих усопших, верных и любимых друзей. А по пятницам зодчий неизменно посещал мечеть и там молился о спасении их душ. Так проходили день за днем — в тоске и печали. Уже совсем одряхлевший зодчий так и жил в своей махалле Намазгох, лишившись почти всех своих родных и близких. В Бухаре не затевалось никаких новых строек, и почти все мастера разбрелись в поисках заработка по городам и селениям. Да и кому нужен был старый зодчий, который дожил до ста лет, кому нужны были его знания и советы?
Вельможи, чиновники и придворные, зная о том, что родные Наджмеддина Бухари погибли в битве против Абусаида, сторонились его. Они боялись сейчас даже взглянуть в сторону некогда прославленного зодчего, который теперь был похож на юродивого.
В одну из пятниц, держа за руку правнука и опираясь на посох, зодчий пришел в мечеть. Прочитав молитву, он уже направлялся домой, но у калитки мечети его остановил поджидавший зодчего служка и сообщил, что их святейшая милость Ходжа Мухаммад Порсо, исполнявший нынче обязанности имама, приглашает зодчего в молельню, что рядом с алтарем.
Наказав правнуку дожидаться его здесь, на улице, зодчий, постукивая посохом, побрел за служкой по просторному, выложенному квадратным кирпичом двору мечети. Пройдя в молельню, что находилась под куполом, он увидел четырех мужчин, перебиравших четки. Они мирно сидели на расстеленном ковре, и среди них был Ходжа Мухаммад Порсо!
— Здравствуйте, — сказал зодчий, входя в полутемную молельню.
— Здравствуйте, — отозвался Мухаммад Порсо, приглашая зодчего присесть.
С трудом согнув непослушные колени, зодчий опустился у самого входа и сложил ладони для молитвы…
— Ну как, живы-здоровы, зодчий? — громко спросил Мухаммад Порсо, почему-то решив, что Наджмеддин Бухари плохо слышит.
— I Благодарю! Как видите, все еще существую на белом свете.
— Я пригласил вас к себе для того, чтобы сообщить вам следующее, — продолжал Мухаммад Порсо. — Завтра или послезавтра вы должны явиться сюда в приличной одежде, и по возможности в новой. Я намерен повести вас в цитадель, где вы предстанете пред очами его высочества Султана Абусаида-мирзы. Его высочество, слава аллаху, весьма ценит людей науки и искусства.
— У меня нет никакого дела к его высочеству, господин, — сдержанно ответил зодчий. — Я предстану теперь лишь пред очами Мункера и Накира — ангелов, что снимают первый свой допрос на том свете.
— Советую воздержаться от еретических речей, зодчий.
— Я дожил до глубокой старости и не совершал предательства, — продолжал зодчий, — жить мне осталось немного. И никто, даже вы не можете теперь сделать меня предателем.
Наступило молчание.
— Повторяю, забудьте еретические речи! — побледнев, воскликнул Мухаммад Порсо. — Видно, вас одолевает дьявол!
— Я говорю правду и только правду. — Зодчий бросил хмурый взгляд на Мухаммада Порсо. — Вот вы совершили предательство, вы предали своего государя, вы открыли ворота Бухары врагу. И как вдень Страшного суда вы взглянете в лицо Улугбека?
— Деяния Улугбека противны исламу. Он вероотступник! — крикнул Мухаммад Порсо.
— Деяния Улугбека противны фанатикам и предателям, — ответствовал зодчий, поднимаясь с колен. И, гневно постукивая посохом, пошел через двор Джамемечети.
Поджидавший его у входа Низамеддин взял прадеда за руку и повел домой.
С того дня зодчий не ходил больше в мечеть, теперь он молился дома. Прихожане-фанатики могли напасть на него, избить или даже убить. Но Мухаммад Порсо решил: не стоит, скоро сам подохнет как собака…
Хотя ты открыл лавку жемчужин,
По сути эти жемчужины рассеял в народе.
Навои
Зодчему уже перевалило за сотню лет, а он все еще бродил по улицам своей родной Бухары. Опираясь о посох, он медленно шел по извилистым и узким улочкам своей махалли, затем выходил на площадь и направлялся к своему детищу — медресе Улугбека. Усы и борода зодчего были седыми как лунь, брови нависали над глазами, и под желтой, даже коричневой, словно кирпич после обжига, кожей явственно проступали ребра. Одет он был в белую, распахнутую на груди рубаху и белые штаны, на голове носил старенькую светло-желтую чалму и на ногах неизменные кавуши.
Рано утром он выбирался из своего дома. Обогнув Минораи Калан, он останавливался в тени под высокими стенами Масжиди Калай и долго стоял здесь. Видно было, что ему нет дела ни до кого и ни до чего. Затем, пройдя через многолюдный базар под огромными куполами Токи Заргарона и под крытыми базарными рядами, выходил к водоему Ташхауз. Здесь останавливался передохнуть, глядя на чуть подернутую рябью воду, наполнявшую до самых краев этот огромный хауз. Иногда он пил из чашки водоноса, который поил его из милости, надеясь угодить этим аллаху. Старик не обращал внимания и на мальчишек, бежавших за ним следом. Опираясь о посох, он продолжал свой путь. Увидав древнего старца, иные люди останавливали повозки запряженные осликами, и покорно ждали, пока он пройдет, зато другие, нетерпеливые, проезжали, проходили мимо, задевали и толкали его, но и это не трогало старого зодчего. Встречавшиеся на его пути арбакеши и носильщики порою останавливались, уступая ему дорогу, — Прислонившись к резной стене медресе Улугбека, он мутными глазами глядел на солнце, пока глаза не начинали слезиться и их не затягивала темная пелена. Тогда ему чудилось, будто над куполом медресе проросла разрушительница зданий трава кавар и нужно как можно скорее уничтожить ее. Стебли травы, подобно змеям, свисали с каменных стен. Он не глядел на людей проходивших мимо, хотя многие бухарцы знали своего знаменитого земляка и до сих пор женщины все еще выбегали из своих калиток, чтобы положить ему под ноги коврик, но зодчий переходил на середину улицы и брел прямо по пыли, бормоча, что не следует оказывать ему почестей.
Зато приезжие из других городов принимали его за нищего или юродивого. А бывало, что женщины, сидящие у калиток, низко кланялись старику и объясняли детям: «Этот дедушка отец отца твоего папы…»— на что зодчий с улыбкой прикасался к головенкам и плечам малышей.
Не раз, когда он проходил под стенами медресе, целая орава мальчишек, запускавших змей на площади, швыряла в него комья грязи или глины, тоже принимая его за юродивого, бродившего по базарам. Если здесь случался кто-либо из взрослых, мальчишек с руганью разгоняли. Зодчий не сердился на сорванцов, а лишь улыбался и шел дальше.