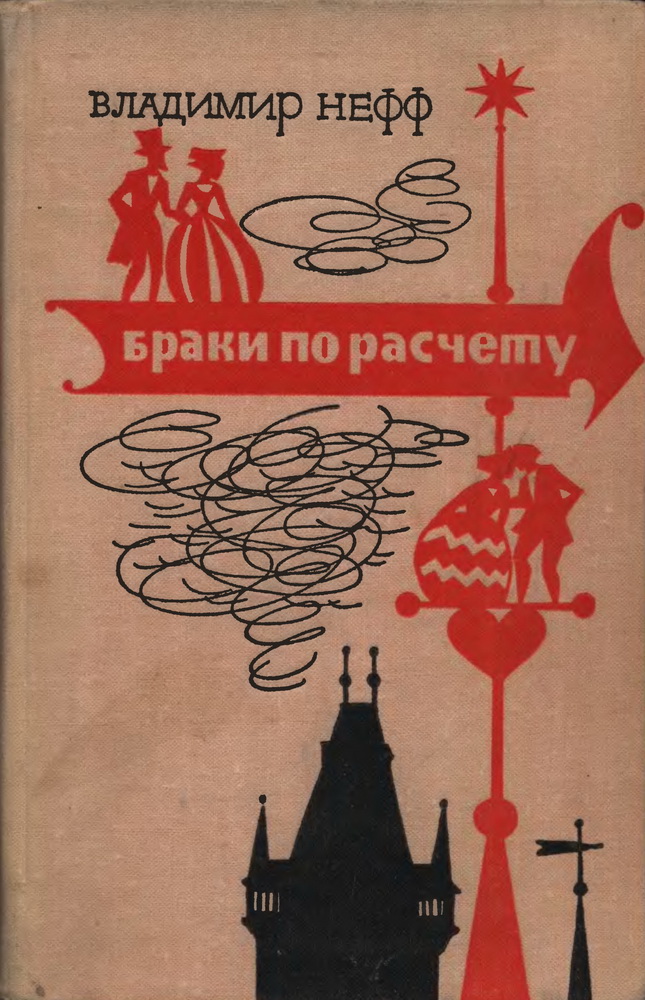их ульев, накинулись густыми роями на людей и коней, прочерчивая воздух ломаными линиями своего полета, — единственные защитницы оставленной деревни, маленькие работницы, оторванные от мирного труда, и даже грохот пушечной пальбы не мог заглушить их гневного жужжания, когда они ринулись в бой. Они жалили, жалили, платя жизнью за каждый укол, и не было от них спасения — напрасно взбесившиеся лошади обращались в бегство, напрасно всадники, ослепшие, облепленные, как чешуей, блестящими тельцами крылатых воительниц, отмахивались искусанными руками, вопя от боли и бессилия, напрасно бросались наземь, пытаясь спрятать лицо в траве. Здесь сама природа бессознательно возмутилась чудовищной человеческой глупостью. Эпизод этот, пусть знаменательный по своей необычности, пусть трагический для того гусара, который, ослепнув, свалился со взбесившейся лошади и сломал шею, — был, однако, слишком неприметным и ничтожным в том пандемониуме ужасов, который историографы называют битвой под Градцем Кралове или под Садовой.
Пали Масловеды на восточной оконечности Свибского леса, пало Неделиште, откуда наспех собранные остатки Второго австрийского корпуса были спешно переброшены на первоначально предназначавшееся им место, но были выбиты и оттуда и принуждены перебираться на левый берег Лабы, потому что в бою за Свибский лес расстреляли все патроны; тем самым австрийские позиции были разом ослаблены на двадцать пять тысяч штыков.
И все же у Бенедека к этому времени еще оставались значительные, свежие резервы, тысяч пятьдесят пехоты и более одиннадцати тысяч кавалерии; но он, потерявший уверенность, полный опасений, разочарованный ходом битвы, боялся, что, бросив этот резерв в огонь, преждевременно израсходует все силы. Он представления не имел о быстром приближении армии кронпринца — с того места, где он стоял, неровности почвы не давали ему разглядеть северо-восточную часть поля боя. И когда Вторая прусская армия уже находилась чуть ли не за спиной у него, растерявшийся старик все еще помышлял о генеральном наступлении на позиции Красного Принца вдоль Быстршицы.
— Пора нам ударить всеми силами, — время от времени, совершенно невыразительным тоном говорил он офицерам своего штаба; или, еще чаще, спрашивал: — Ну как, двинем?
Они же отвечали, что лучше подождать, когда видимость станет лучше, то есть когда в долине Быстршицы рассеется пороховой дым. И Бенедек, несчастный и нерешительный, пожимал плечами:
— Ну что ж, если вы так полагаете…
А потом австрийская армия развалилась, и наступила катастрофа.
Напрасно возле деревни Хлум пыталась преградить дорогу пруссакам артиллерийская батарея Третьего армейского корпуса, знаменитая батарея мертвых, — она до тех пор осыпала противника восьмифунтовыми зарядами картечи, пока, один за другим, не пала вся прислуга; пятьдесят два человеческих трупа лежали в общей куче с трупами шестидесяти четырех батарейных лошадей. В три часа пруссаки овладели деревней Розбержице, расположенной непосредственно на дороге от Садовой к Градцу; теперь австрийская армия была разрезана надвое; некоторый интерес представляет, что в бою за эту деревню, где пруссаки — последний раз в тот день — встретили отчаянное сопротивление, большою кровью отвоевывая каждую избу, участвовал молоденький лейтенант фон Гинденбург, будущий президент Великогерманской империи.
После этого прусские войска продвигались уже с такой стремительностью, что Бенедек, стараясь хоть как-то объяснить своему императору внезапный поворот фортуны, послал ему телеграмму, в коей указывал на «туман вокруг Хлума», позволивший-де неприятелю приблизиться незамеченным, — жалкая, беспомощная отговорка, хотя и не совсем безосновательная, потому что четырнадцать пылавших, как свеча, деревень окутали всю местность черными тучами дыма.
О падении Хлума, находившегося в непосредственном соседстве с его командным пунктом, Бенедек узнал случайно, когда послал какого-то полковника, чье имя осталось неизвестным, с приказом частям левого крыла; бравый полковник поскакал, да сейчас же и примчался обратно в ужасе с сообщением, что по нему открыли со стороны Хлума огонь из прусских игольчатых ружей.
— Не городите чепухи, — прервал его Бенедек; однако обиженный полковник стоял на своем, и фельднейхмейстер, потеряв последние нервы, опрометчиво крикнул в запальчивости: — Но этого просто не может быть, поедем посмотрим сами!
И, в сопровождении генералов, он начал спускаться с холма.
— Вот видите, все это неправда! — сказал он с облегчением, когда они беспрепятственно подъезжали к Хлуму, но слова его покрыл треск выстрелов из крайних домиков, и под пятью генералами, в том числе под одним эрцгерцогом, пали кони. Еще немного, и весь генеральный штаб австрийской армии вместе со своим главнокомандующим попал бы в плен к пруссакам, потому что, когда генералы сломя голову, кто верхом, кто пешком, врассыпную бежали от Хлума, то случайно угодили под картечь своей же батареи и совсем растерялись в этой страшной обстановке.
В половине третьего на левом австрийском фланге саксонский кронпринц Альберт приказал отступать; к четырем часам полукруг, которым расположилась австрийская армия, был прорван в самой середине, и поле битвы сузилось столь опасно, что среди перемешавшихся частей, стесненных на небольшом пространстве, начала распространяться паника. Теперь бы Бенедеку в самый раз дать приказ к отступлению — но фельднейхмейстер, потерявший голову, бледный, бестолково метался от одной части к другой, то отдавая какие-то распоряжения, то тут же отменяя их и скача в другой конец; при этом он так явно подставлял себя под неприятельский огонь, что приближенные офицеры сочли, что он ищет смерти. Позднее, когда его спросили, почему он в тот критический момент не дал приказ отступать, он ответил невероятное: он-де не подумал об этом, потому что всеми мыслями был со своими солдатами.
Высоты и склоны все плотнее покрывались синими прусскими мундирами, пруссаки двигались извилистыми полосками, становящимися все шире и шире. Австрийские полки разорваны, разбросаны, перемешаны, артиллерия и обоз врезались в пехотные части, превращая их в кашу; пехоту топтала остервенившаяся кавалерия, сшибая все то, что с грехом пополам поднималось на ноги, — а пруссаки крыли гранатами и шрапнелью из всех стволов, своих и захваченных у врага, по этому воющему хаосу живых и раненых людей и животных, по этой бесформенной мешанине металла и дерева, пушек и повозок, по этим грудам кровавого мяса, по этим опадавшим и вздымавшимся волнам бегущей австрийской армии, охваченной эпидемией ужаса.
Тремя густыми потоками эта обеспамятевшая от страха, орущая масса войска валила к материнской крепости Градца Кралове, торчавшей темным каменным островом над водой, которая разлилась по окрестности на два, на три, а местами и на четыре километра. Лишь несколько узеньких дамб, то есть несколько проходивших по насыпям дорог, выступало над черной гладью мутных вод, и эти-то дамбы, эти дороги должны были вместить несметные толпы бегущих; они, конечно, не вместили их, и тысячи солдат брели по затопленным полям по колено, по пояс в воде, в тяжелых солдатских башмаках,