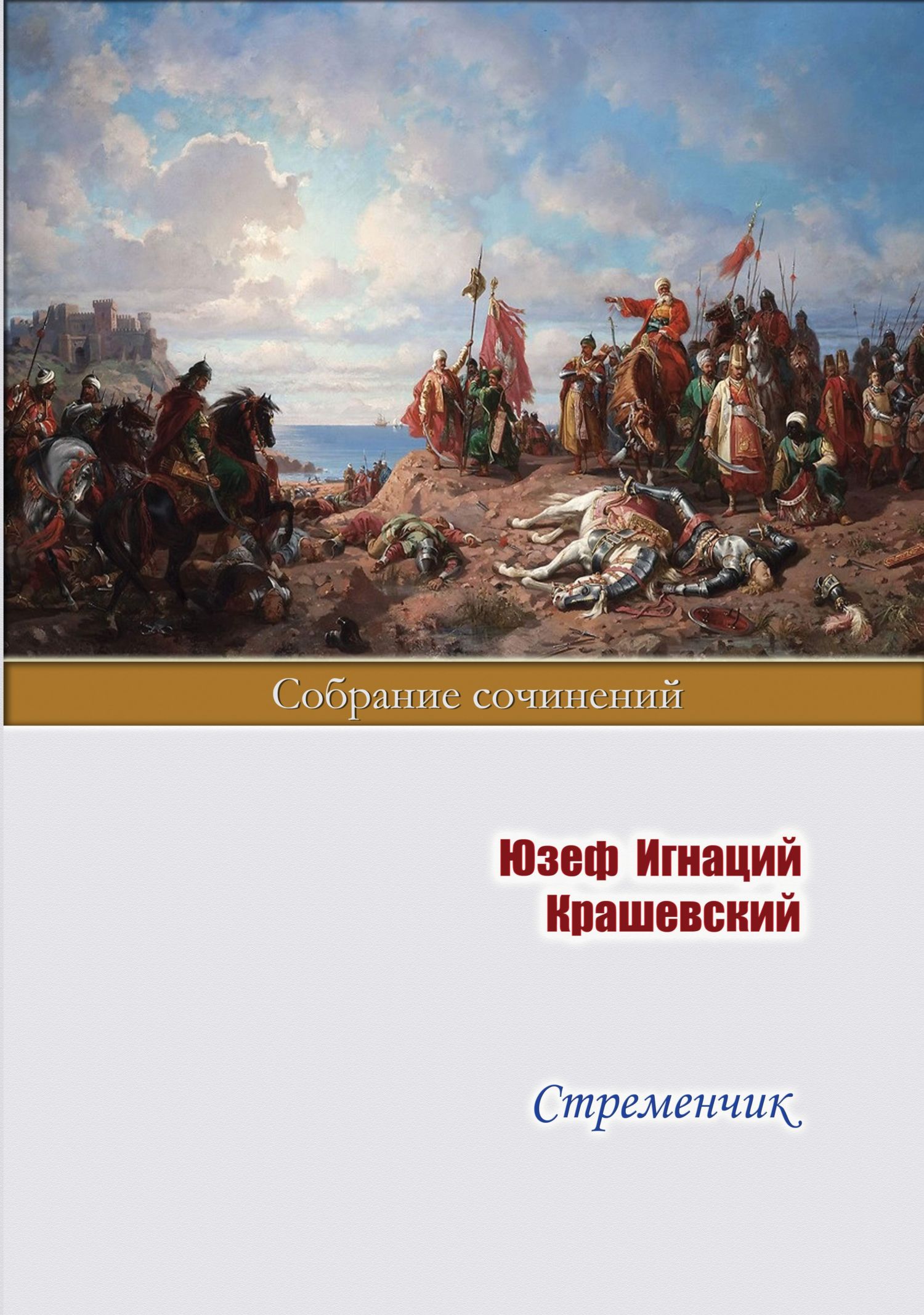в Расции замки, часть Албании деспоту… хотел только оставить за собой Булгарию.
Присутствующий там деспот Расции Ежи, который больше других получил выгод от этого послушания турок, бросался на колени, умолял, заклинал, чтобы не оставляли такой счастливой возможности вернуть крепости и оборонительные замки, которые некогда вкусили много крови, а сейчас их можно было бесплатно вернуть. Венгерские паны также горячо настаивали на мире.
Кардинал смотрел издалека, слушал, хмурился, но против общего течения не мог выступить. Не хотел напрасно сопротивляться и быть побеждённым, а чувствовал, что не победит.
Кроме самого короля, который с грустью принимал эти условия, не в состоянии отрицать, что они были выгодные, кроме кардинала и декана, все, казалось, согласно радуются этому миру, который был заключён на десять лет.
Стоны и мольба деспота, который, помимо замков, хотел вернуть своих двоих сыновей, находящихся в руках Амурата, также очень способствовали ускорению переговоров.
Грек казался сверх всякого ожидания послушным, согласился на уже раньше оговорённые условия, новых требований не предъявлял.
На третий день Ласоцкий дал знать Цезарини, что мир был почти заключён. Кардинал побледнел, но не сказал ни слова. Он вошёл, как обычно, к королю и ни о чём его не спросил, не упрекал его.
Этот десятилетний трактат был с обеих сторон заверен клятвами, турками – на Коране, с нашей стороны – королём.
В ту минуту, когда о том была речь, сильно настаивая на том, чтобы клятва была как можно более торжественная и как можно сильней обязывающая, Родокос предложил, чтобы король поклялся на святыне у алтаря тем, что для христиан было самым святым.
Грек не без причины этого требовал, он хорошо знал, что рядом с королём были люди, которые хотели подстрекать его против трактата и уговорить нарушить клятву. Эту мысль подал ему Аркадиуш.
При первом упоминании об этом Грегор из Санока, который находился в помещении, весьма резко заговорил:
– Никогда на свете быть этого не может! – крикнул он. – Присяга на святыне у нас неслыханна, ни один обычай её не допускает и не освящает! Это была бы профанация! Вы не можете это разрешить.
Грек настаивал на своём.
Возмущённый магистр побежал прямо к королю, рядом с которым нашёл кардинала со сжатыми губами и сверкающими глазами.
Между Цезарини и Грегором из Санока в последние дни доходило до конфликтов и споров, часто в незначительных делах, словно Цезарини не мог справиться с неприязнью к этому человеку.
Когда магистр с изменившимся и гневным лицом вбежал в покои, кардинал смерил его грозным взглядом.
– Милостивый государь, – сказал Грегор с пылом, – Безбожный грек требует недостойной, неприемлимой вещи…
Он хочет клятвы на святыне. Это была бы профанация! Этого нельзя доспустить!
Владислав вскочил со стула, но, не отвечая, смотрел на кардинала, словно бросал ему вызов.
Цезарини сделал ироничную гримасу.
– Если подписываете мир и вынуждаете короля присягнуть ему, – сказал он, – почему он не может поклясться на святыне? Обычая этого нет, но и запрета нет. Та или иная присяга – не важно.
– Как это? – выкрикнул Грегор, с удивлением отступая. – И это говорите вы, ваше преподобие? Вы? Князь церкви? Вы допустили бы, чтобы ради земного дела использовали Бога и делали святыню инструментом?
– Мы присягаем на кресте и Евангелии, – ответил кардинал, – почему не на святыне?
– Никогда на свете мы это не допустим! – воскликнул Грегор.
– Повторяю вам, – вставил Цезарини, – что не вижу в этом ни профанации, ничего необычного… а эта присяга!
Он пренебрежительно махнул рукой.
– Еретикам и язычникам мы ни верности, ни клятв не обязаны сдерживать, – прибавил кардинал.
Грегор вздрогнул.
– И это было бы христианской наукой? – воскликнул он резко. – Наукой того Спасителя, который велел любить врага, а за зло платить добром, который в Евангелие от права любви никого не освобождает?
Цезарини с видом сочувствия поглядел на магистра Грегора, пожал плечами и повернул глаза в другую сторону.
Грегор подошёл к королю.
– Милостивый король, – сказал он серьёзно и с намащением, – хотя присутствующий здесь легат святого отца, кажется, был за эту неслыханную форму присяги, которую турок, а скорее хитрый грек, его посол, требует… я, как ваш старый слуга и страж совести, умоляю вас, не принимайте этого условия. Я был и есть за мир, – сказал он, – но купленный такой ценой… никогда!
Кардинал внимательно поглядел на короля.
Могло быть, что, поддерживая присягу на святыне, он хотел её предотвратить и уничтожить мир в те минуты, когда он уже был близок к подписанию. Догадался, что набожный Владислав пойдёт по совету магистра. Король открыто показал, что на эти требования согласиться не может.
– Не буду им присягать иначе, только согласно обычаю, – сказал он решительно, – не бойтесь, магистр… кощунством не запятнаю себя.
По губам Цезарини пробежала усмешка, он молча поглядел на Грегора, который ещё стоял.
– Я могу отнести этот ответ короля? – спросил он.
– Да. Скажите им, что если мне не доверяют, никакая клятва доверия не вызовет, – ответил Владислав.
Грегор победно поглядел на Цезарини, в лице которого было что-то насмешливое… и ушёл.
В покоях короля ждали потом разрешения этого спора о присяге довольно долго. Слегка раздражённый этой неопределённостью Цезарини отправил Ласоцкого на разведку.
Декан вернулся с новостью, что грек настаивал на своей присяге на святыне, но было очевидно, что он сдастся и от своего условия отступит, ограничиваясь крестом, Евангелием и алтарём.
Кардинал, услышав это, нахмурился, последняя надежда сорвать переговоры пропала.
На следующий день король присягнул на заключённом трактате по старой традиции, а турки обязались в течение восьми дней выдать замки.
Молчание, терпение, равнодушие, с какими кардинал Цезарини смотрел на заключение мира в Шегедыне, на странные провокации, когда речь шла о присяге, пренебрежение ею, для тех, кто, как Грегор из Санока, знал Цезарини, казались непонятными.
Он, кто был душой и пружиной экспедиции против турок, кто следил тут только за тем, чтобы крестовую войну против неверных сделать неумолимой и окончательной… в минуты подписания десятилетнего мира вёл себя так, точно в действительно не имел ни малейшей надежды склонить к войне. Ему ничего больше не оставалось, как возвратиться в Рим, потому что его пребывание на дворе короля Владислава было бесцельно.
Он совсем не говорил об отъезде, а в дороге в Буду, как в Шегедыне, сохранял то же равнодушие.
Грегор из Санока, который следил за каждым движением этой загадочной фигуры, убедился только, что при каждой возможности наедине с королём и теми, рыцарский характер которых знал, кардинал старался пробудить в них жалость,