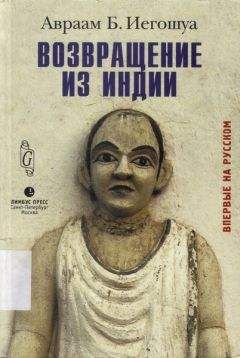Поразительно, но хозяин и его жена не отшатываются в ужасе и не впадают в гнев из-за того, что он запакостил крохотную каюту, эту драгоценную шкатулку их воспоминаний, но лишь пугаются донельзя — как будто смерть, уже однажды настигшая их маленькую группу, может соблазниться и нанести повторный удар. Их руки, поднаторевшие в выращивании детей, быстро распознают жар, прячущийся под прикрытием бледности, и они торопливо закутывают его маленькое тельце в одеяло и кладут мокрую тряпку на его виноватые глаза. Затем Бен-Атар быстро поднимается на палубу, где первым делом приказывает Абд эль-Шафи послать матроса вычистить каюту, а затем отправляет молодого язычника, только что вернувшегося из дома, что по ту сторону реки, в обратный путь, чтобы немедля вызвать рава Эльбаза, потому что чудесное великолепие сукки молодого господина Левинаса, кажется, заставило этого восторженного отца забыть об исчезновении единственного сына.
В ожидании, пока рав Эльбаз появится на палубе и возьмет на себя заботу о заболевшем сыне, Бен-Атар решает использовать перерыв, подаренный рукою случая, чтобы немного отдохнуть от того скрытного поминального сидения, которое он сам себе навязал в каюте на корабельном днище, и внимательно проверить товары, готовые к разлуке с кораблем, доставившим их в целости и сохранности в самое сердце Европы. А пока, стоя на палубе, он с чувством благодарности вдыхает ночную прохладу парижского островка, над которым поднимается дым многочисленных костров и доносятся отдаленные звуки веселого смеха, и, напрягая глаза, пытается различить в очертаниях противоположного берега то неприметное место между виноградником и маленькой капеллой, где покоится его молодая жена, ожидая, пока поставят памятник на ее могиле, чтобы тогда окончательно распроститься со своим мужем.
Он слегка вздрагивает, когда его затылка внезапно касается рука первой жены. И хотя ему кажется, что ее прикосновение горячее обычного, он не уверен в этом. С самого отъезда из Вормайсы они избегали прикасаться друг к другу, и сейчас он пристально вглядывается в ее милое лицо, знакомое ему с самой юности и сейчас зовущее его снова спуститься в маленькую каюту, уже приготовленную для их возвращения — вычищенную, прибранную и пропитанную ароматом лаванды, способным перебить любой неприятный запах. Но ведь заболевший мальчик все еще там. Перевести его в другое место или дождаться возвращения отца? Бен-Атар решает не трогать мальчика и подождать прихода рава Эльбаза, и тот действительно вскоре появляется, запыхавшийся и испуганный, и, неловко спустившись по веревочной лестнице в каюту торопливо склоняется над лежащим на полу, свернувшимся, как зародыш, сыном и в страхе окликает его по имени. Мальчик медленно открывает красные глаза и, несмотря на слабость, внимательно изучает лицо рава. Знает ли уже отец о совершенном мною грехе? А если знает, сумеет ли спасти меня от приговора?
— Что бы там ни было, но это не та судорога, что отгибает голову к смерти, — с облегчением думает рав, когда он видит сына, свернувшегося мягким клубочком на полу каюты, и странная мысль обжигает ему душу: возможно ли, что это покойная вторая жена наслала на мальчика злобные силы, чтобы наказать андалусского рава за то, что он разрешил тащить ее без погребения от Вердена до самого Парижа? Забери меня, но не его! — с горечью кричит он незримому злобному духу и поспешно берет на руки своего горящего в жару мальчика, чтобы как можно скорее перенести его с исмаилитского корабля в еврейскую сукку.
Да, перенести, и скорее, ибо севильский рав внезапно утратил веру в хозяина корабля и даже грубо отталкивает сочувственную руку первой жены, когда она пытается помочь ему прикрыть ребенка. Дурные мысли овладели им теперь настолько, что ему представляется, будто Бен-Атар хочет наказать его за неудачную проповедь в синагоге Вормайсы. Но поскольку Бен-Атар знает, что нельзя винить человека, когда он в горе, и препятствовать ему, когда он в отчаянии, то не отговаривает рава, а немедленно велит капитану, чтобы тот поручил матросам связать веревочные носилки и со всей осторожностью перенести больного мальчика на противоположный берег. И так как ворота в городской стене уже закрыты, им приходится спустить шлюпку и бережно опустить туда носилки с привязанным к ним мальчиком. Затем в шлюпку так же бережно спускают испуганного рава-отца и на всякий случай присоединяют к нему черного раба, которому доводится, таким образом, уже в третий раз за день перебираться с берега на берег. И что-то восхитительно изящное есть в этой маленькой шлюпке, родившейся из чресел брюхатого, громоздкого, наряженного в пестрые лоскутья мусульманского корабля, когда она почти беззвучно, не оставляя следов на воде, скользит с севера на юг по гладкой поверхности залитой лунным светом реки, направляясь к высящемуся вдали в строительных лесах монастырю Сен-Жермен-де-Пре.
И вот, около полуночи, тяжелый стук снова сотрясает железную дверь еврейского дома, и компаньон-племянник, а также его жена, теперь тоже невольная компаньонка, узнают, что должны срочно принять больного мальчика, в теле которого явно пылает какая-то опасная скверна, коли она так подчеркивает темную выразительность его запавших, словно бы подведенных сурьмою глаз и окрашивает смуглые щеки почти поросячьей розоватостью. И странно — госпожа Эстер-Минна встречает больного подростка с большим возбуждением, в котором, наряду с явной тревогой, угадываются также следы скрытой радости, словно этот мальчик, принесенный в ее дом для выздоровления, может воссоединить ее с остальными путешественниками, и в первую очередь с тем, кто их возглавляет, этим смуглым и сильным южным человеком, падение которого обернулось также и ее поражением. Не потому ли, несмотря на полуночный час, она не щадит ни свою служанку-иноверку, ни мужа, который тотчас пытается вновь улизнуть под одеяло? И ее не пугают даже тихие завывания несчастной девочки, которая, кстати говоря, вернулась с прогулки хоть и возбужденной и даже немного испуганной, но отнюдь не в обычном своем угрюмом унынии. Ибо сейчас госпожа Эстер-Минна хочет быть простой и щедрой, а не только мудрой и правой. И поэтому она, не задумываясь и не медля, прямо посреди ночи, переворачивает ради маленького пациента весь уклад своего дома. Сначала она втискивает молодого господина Левинаса в один угол крошечной сукки и устраивает в другом ее углу постель для рава Эльбаза, чтобы они поделили между собою радость исполнения заповеди, затем уговаривает своего супруга Абулафию взять одеяло и отправиться в комнату его несчастной дочери, где он сможет найти покой и сон на остаток ночи, — и всё это для того, чтобы она могла уложить мальчика рядом с собой в своей супружеской постели и неотрывно наблюдать за ним до самого утра.
И вот она лежит возле осиротевшего севильского мальчика, чутко и напряженно следя, чтобы не пропустить ни один вздох или бормотанье, ни один стон или жалобу, чем бы они ни были порождены, сном или болью. А тем временем снаружи милосердная луна уже скрылась за тучами, и черный бархат ночи медленно плывет над поверхностью Сены, которая ласково обнимает берегами своих раздвоенных рукавов островное сердце маленького Парижа. И внезапно новая и страшная тревога, смешанная с каким-то нежным и непонятным счастьем, заливает душу этой бездетной, немолодой женщины, и она клянется себе, что не даст Ангелу смерти вторично обездолить тех смуглых южных людей, которых вытащила в Европу ее враждебная ретия, но, напротив, использует всю силу своей праведности и ума, чтобы спасти лежащего перед нею маленького сироту, которому она не только должна, но и сама сейчас страстно жаждет стать второй матерью, взамен покойной.
Она так взбудоражена этой мыслью и так лелеет и разжигает ее в своем воображении, что отказывается не только от сна, но даже от того, чтобы хоть немного вздремнуть. Наоборот, она встает с постели и стоит, как часовой, над больным ребенком, который ворочается и вздрагивает во сне, преследуемый своим ужасным грехом, который оборачивается всё новыми кошмарными виденьями. А ночная тишина вокруг так глубока, так безмолвна, что госпоже Эстер-Минне кажется, будто она не только слышит каждый, самый слабый, шорох и звук в своем доме, но даже может правильно его опознать. Вот за стеной поднимается неровное, быстрое дыхание Абулафии, который пытается спать, не обращая внимания на кошмары растревоженной души лежащей рядом с ним девочки. А вот внизу, в крошечной сукке, рав Эльбаз шепотом изливает тревогу в тихих молитвах, стараясь не разбудить молодого господина Левинаса, которого и во сне пьянит радость исполнения «заповеди сукки». И так блаженна и восхитительна эта тишина вокруг, что, кажется, открой она сейчас окно и напряги слух, она услышала бы не только мерные пошлепывания маленькой шлюпки, привязанной к борту причаленного на противоположном берегу корабля, но даже звук шагов молодого идолопоклонника, который в этот миг пробирается, охваченный желанием, в хижину старого резчика, что на северном холме за рекой. А если она постарается еще сильнее и, зажмурив глаза, склонит голову и погасит внутри любую мысль и любое желание, то, возможно, до нее донесутся даже едва слышные рыдания первой жены, которая в эту минуту вымаливает любовь своего мужа в темных глубинах корабля.