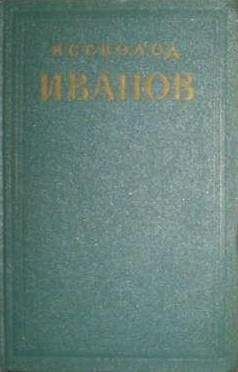Пархоменко, быстро шагая, спросил на ходу у какого-то командира с перевязанной рукой:
— Что, товарищ Сталин уехал?
— Уезжает, товарищ комдив.
— Как уезжает? Стало быть, не уехал? А где же машина?
— Автомобиль налаживают, товарищ комдив. С бензином, товарищ комдив, еще хуже, чем с овсом.
Когда командир заговорил об овсе, Пархоменко узнал его. Несколько дней назад Пархоменко разнес этого командира — его фамилия была Самсонов — за небрежное расходование овса. «Вы знаете, что такое на нашей войне овес?» — спросил он его. И Самсонов, командир одного из эскадронов 3-й бригады, ответил: «Овес — есть жизнь для коня, а значит, и для победы». Этот ответ очень понравился Пархоменко, как и понравился ему весь командир — широколицый, здоровый, сильный. С грустью Пархоменко узнал на другой день, что Самсонов ранен в разведке.
— Что, уже поправился?
— Не столько поправился, товарищ начдив, сколько бежал из лазарета, — сказал Самсонов, и тут Пархоменко заметил, что он еле стоит на ногах от боли и слабости, что глаза его воспалены, а широкое лицо иссиня-бледно.
— Безобразие! Вы, вы бежали, Самсонов? Налево кру-у…
Весь дрожа и пошатываясь, Самсонов прервал его:
— Прошу, товарищ начдив, выслушать. Я должен видеть Сталина!
— Зачем?
Самсонов не успел ответить. Узкие половинки дверей, когда-то окрашенные в белое, раскрылись. Выбежал председатель местного исполкома, человек с квадратной челюстью и добрыми глазами навыкате, за ним шли шесть или семь старших командиров штаба юго-западного фронта, мелькнул между ними комиссар в высоких сапогах, а затем минуту спустя своей неторопливой походкой вышел Сталин.
На площади стало необыкновенно тихо и хорошо, как бывает, только когда в беседе человек вдруг скажет изумительно откровенно, правдиво и важно для каждого. И Пархоменко почувствовал, что если б он смог сейчас отвести взоры от Сталина и перевел бы их на лица других, он сразу узнал бы мысли каждого. Но он видел лишь одного Сталина — и больше никого не мог видеть.
На площади, как-то плавно ныряя в ухабах, появился автомобиль. Он, описав полукруг, подняв на дыбы коней у коновязи, приблизился к крыльцу. Сталин медлил сходить. Он глядел в толпу. Он узнал Пархоменко. Но каждый в толпе думал, что Сталин глядит на него, и каждый ждал от этого взгляда чего-то большого и удивительного.
Пархоменко тоже казалось, что Сталин глядит на него, но он не мог поверить этому и от этого не знал, что делать. Он полез в карман, чтобы вытереть платком потный лоб. Платка не было. Он поднял руку — и вдруг, совсем близко от себя, на уровне руки, увидел светящиеся и уже расспрашивающие о многом глаза Сталина.
Но глаза эти заслонила фигура раненого командира эскадрона Самсонова. На лице его было такое наивное желание что-то сказать, лицо его так преобразилось, а рука так возбужденно дрожала у фуражки с крошечным, переломанным в середине козырьком, что Сталин не мог не подойти к нему ближе. Он подошел и молча и ласково глядел в молодое, полное счастья лицо человека, забывшего сейчас и свою слабость, и боль в руке, и выговор от комдива, человека, необыкновенно счастливого тем, что он видит перед собой руководителя обороны Царицына, организатора разгрома громадной армии Деникина, полководца, с чьим именем связано создание Первой Конармии.
— Разрешите доложить, товарищ Сталин! — крепким и необыкновенно свежим голосом на всю площадь крикнул широколицый молодой командир эскадрона.
Сталин не успел ответить, а только улыбнулся, но эта улыбка говорила: «Докладывайте, но, если можно, побыстрей, мы все здесь очень заняты».
— Я — понимаю! — продолжал Самсонов. — Я скажу только, что вся Конармия заверяет вас и клянется: белополяки будут разгромлены! Доложите товарищу Ленину, что победа с нами! Да здравствует Ленин! Да здравствует Сталин!..
И вдруг Пархоменко увидел, именно увидел, а не услышал, — как можно видеть вихрь, несущий в своем стремительном беге ветви, пыль и листья, — радостный, вихревой крик из сотни грудей. Люди кричали с такой оглушительной силой и мощью, словно здесь собралась и кричала вся многотысячная Конармия, все конники, все преданные ей пехотинцы, артиллеристы, связисты, саперы; словно кричала Уманьщина, Киевщина, вся Украина, вся Россия, Кавказ!.. Голова кружилась от этого бешеного, восторженного, полного любви и верности крика:
— Ура-а-а… Ленину-у… Сталину-у… ура-а-а!..
И вся площадь, — командиры, солдаты, работники штаба и работники исполкома, а вместе с ними и Пархоменко, — все поняли, что их желание: увидеть и услышать необыкновенно для них важное, — исполнилось. Молодой эскадронный командир с широким лицом своим свежим грудным голосом высказал их заветное желание, их уверенность, — и Сталин понял их желание и их уверенность в победе, понял и передаст это все Ленину, и всей Советской России, и всем трудящимся мира.
Кроме того, Пархоменко понял, что — чепуха и вздор все его недавние обиды на работников штаба Конармии, на которых он хотел жаловаться. Просто он, повидимому, немного устал, взволнован предстоящими военными операциями и преувеличивает трудности. Можно сделать в сотню раз больше, можно свершить дела куда тяжелее, раз с нами — Ленин, Сталин, раз с нами — партия большевиков и весь наш великий народ…
— Ленину-у… Сталину-у… ура-а!.. — кричал он, не замечая того, что все лицо его залито радостными слезами, что слезы текут по усам, падают на руки, на рукоять кривой сабли, на теплую и священную советскую землю.
Всю ночь шел дождь. Воздух был влажный и мягкий, и ветряки за селом как бы плавали в тумане. Медленно шагая по лужам своими короткими ногами, показался политком дивизии Рубинштейн. Позади него шел стройный и сильно похудевший Гайворон. Подойдя вплотную к Пархоменко, Рубинштейн сказал:
— Виноват я, Александр Яковлевич, сильно виноват.
— Сегодня мне везет на извинения, — проговорил Пархоменко. — Ламычев пожаловался: смазочного нет. Я и вспомнил тех беженцев, которых мы у станции встретили. Эх, говорю, Ламычев, теряешь ты связь с массами — плохо беженцев расспросил. У тебя бы уже смазочное было. Не верит. Я ему и приказал поверить. Возвращается с водокачки — вся рожа в масле: «Нашел. Крепко извиняюсь». Нет, говорю, ты перед беженцами извинись. А у вас что случилось?
— Предвижу в третьей бригаде восстание.
Пархоменко изумленно поднял брови и положил руку на шашку.
— Все признаки, — сказал Рубинштейн.
— Какие?
— В бывшем некрасовском полку, в восемьдесят первом, — чуть ли не с рыданием выговорил Рубинштейн, — в том самом, где я начал боевую жизнь, арестовали бойца. Причина, по правде сказать, дурацкая. Боец захохотал. Увидали у него во рту золотую пломбу. А он — доброволец из батраков. И с ним пришли еще трое… Откуда быть у него золотой пломбе?
— Мало ли что бывает, — сказал Гайворон. — Это не причина заметать человека.
Пархоменко спросил:
— Фамилия бойца?
— Ющенко, Борис.
— Большегубый, с оттопыренными ушами, гнусит?
— Да.
— Я его раз в поле встретил, он лубяное лукошко нес с овсом — коней приманивал. Я его еще распек: что ты, мол, на овес коня ловишь? Ты его на уважение лови. А он хохочет. Но пломбы у него во рту я не разглядел.
Пархоменко помолчал, посмотрел на Гайворона, отстегнул свою кривую турецкую саблю, похожую на серп, и сказал:
— Самая завязчивая сабля, Вася. Обратись к Ламычеву. У него штук пять таких есть. Я ею учился рубить и на воде, и на лозе; бог даст, и пана задену. Только помни, что рубить ею надо так, чтобы шашка твоя стояла поперек человека, а когда рубишь — еще оттяни ее немножко на себя. Обрати-ка внимание на эфес. Прямо всасывается в руку…
Долго рассматривали четырехгранный, немного суживающийся к переднему концу, черный эфес. Рубинштейн ждал. Он уже привык к манере Пархоменко — думать, разговаривая о постороннем.
— Скажи пожалуйста, разное орудие, а способ бить — одинаковый, — продолжал Пархоменко. — Вот, скажем, молот. Когда я раньше крупным молотом бил, то замечал, что, если рукоятка хоть малую грань имеет, лучше бьешь. И скажу тебе, Вася, шашка тоже на молот похожа, у нее ведь металл-то сосредоточен к концу клинка. Верно?
И, повернувшись к Рубинштейну, сказал:
— Ну, золотая пломба? Ну, пусть у него вся челюсть золотая! При чем тут восстание? Чего порочить всю третью бригаду? Они там гордые, их обижать не нужно.
— Я с тем и говорю, чтоб, не обижая, найти нитки. Начали об этом Ющенке говорить, дошло до другого полка, пришли оттуда ребята: «Покажи его, у нас есть подозрение». Посмотрели и говорят: «А мы у этого помещика в экономии работали». А у него в бригаде уже дружки завелись… трое…
— И те, трое, его дружки, что говорят о нем?