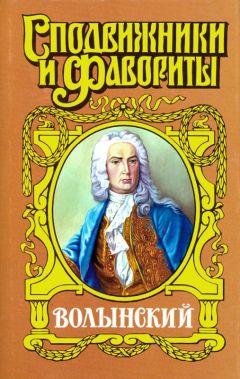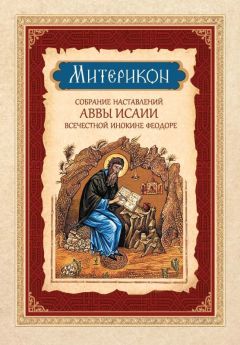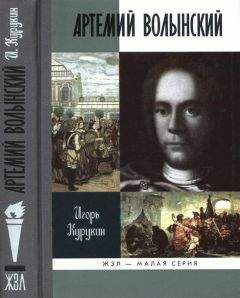С мрачным видом сидел на этих праздниках Артемий Петрович. Он не пил совсем, и ему, трезвому и ироничному, приходилось выслушивать пьяные остроты от врагов своих — Александра Борисовича Куракина и графа Ягужинского. Но он терпеливо сносил эти выходки и пропускал остроты мимо ушей.
Дочери его были приняты в качестве фрейлин ко дворам Анны Леопольдовны и Елизаветы Петровны. Особенно ласкала Аннушку Елизавета — покойная Анна Петровна, сестра её, герцогиня голштинская, была крестной матерью дочери Волынского.
Знание языков очень помогло девочкам сразу же приобщиться ко двору: при дворе Анны Леопольдовны говорили на немецком, а у Елизаветы Петровны — на французском. И лицами, и платьями не отличались дочки Волынского от фрейлин из знатных семейств, вошли в окружение этих малых дворов и завоевали признание скромностью, простотой и справедливостью.
Артемий Петрович не мог нарадоваться на своих дочерей и немножко баловал их. Зато Петруша обнаружил полное незнание немецкого языка, и пришлось Волынскому снова пригласить учителя для сына.
Открыл свой дом и Артемий Петрович для многочисленных и разнообразных знакомых, что появились с постоянством места жительства. Приезжали к нему на вечера, ужины и обеды Нарышкины, родственники покойной жены, графы Головкины, Мусины-Пушкины, бывали Салтыковы, родичи покойных матери и отца, навещали князья Барятинские, заглядывали на огонёк Трубецкие, Урусовы, Черкасские, Шаховские, Щербатовы, заезжал Шафиров, с которым сдружился Волынский ещё в пору первой турецкой войны. Интересные беседы вёл Волынский с академиком Николаем Делилем, сатириком Антиохом Кантемиром, учителем Александро-Невской духовной семинарии Тепловым, сиживали на вечерах у него секретарь Академии наук Василий Ададуров, архитекторы Балк и Еропкин, генералы Григорий Петрович Чернышев и Степан Лукич Игнатьев, Фёдор Иванович Соймонов, начитанный советник монетной конторы Андрей Фёдорович Хрущов, архиерей Псковский Стефан и Вологодский Амвросий.
На вечерах Волынского не было пьяных разгулов, разговоры велись серьёзные и интересные, и скоро к нему начали ездить послушать умных людей, воспринять мысли образованных и проницательных.
Нередко и дети Волынского присутствовали на таких вечерах, и хлебосольный дом Волынского с молоденькой хозяйкой Аннушкой скоро стал заметен во всём Петербурге...
А тут ещё произошло и странное сближение Волынского с герцогом Курляндским, Бироном. Однажды в манеже у Бирона Волынский показывал герцогу партию чистокровных арабских скакунов, которых ему удалось приобрести для русского двора. Бирон, сам страстный лошадник, прищёлкивал языком, обходя четвёрку жеребцов, гладил их по длинным тонким шеям, трепал по шелковистым гривам и откровенно любовался статью и породой.
— Персидские лошадки противу таких коней, конечно, не то, — осторожно заметил Артемий, — да только выучка у них, а уж как выносливы. По каменному карнизу пройдут, не оступившись, шаг в шаг друг за другом.
Бирон, высокий, статный, в красивом белом парике в три локона, удивлённо оглянулся на Волынского.
— А где ж видел ты их?
И Артемий принялся рассказывать о своём путешествии в Испагань, о лошадях Персии. Бирон слушал внимательно и изредка задавал вопросы. Незаметно разговор перешёл с лошадей на политику, и началось тоже с Персии, потом перешло на Турцию. Бирон во все глаза глядел на Волынского — он уже привык, что князья и бароны, очутившись перед ним, словно бы проглатывали язык — страх перед всесильным временщиком сковывал мысли, затруднял речи, и Бирон презрительно отзывался о русской знати. Ценил он лишь одного Остермана, умеющего ловко завязать разговор, провести хитрую интригу, но в последнее время и Остерману перестал доверять Бирон — понимал, что этот лукавый немец может подставить ему ножку не вовремя.
Разговор с Волынским имел далеко идущие последствия. Во время привычного обеда с Анной и детьми Бирон удивлённо рассказал о Волынском, нашёл, что он очень умён и что царица напрасно не использует эту редкую среди русских голову в своих политических делах, а особенно в делах Кабинета министров.
Анна слушала его с видимым безразличием, но про себя улыбалась: она давно и неплохо знала Волынского, но опасалась куда-либо назначать его, чтобы не вызвать ревности своего фактического мужа. Как и Бирон, был Волынский статен и красив, умел хорошо держаться, а его голову она давно оценила, ещё со времени его поездки в Голштинию. Его доклады о положении в этой бедной прибалтийской стране отличались скрупулёзностью и точностью, а мысли были такие, что их хотелось тут же воплощать в жизнь.
— Граф Ягужинский преставился, — заметила она, — не знаю, кого и посадить в Кабинет, маловато среди наших русских умных людей...
— Пусть Волынский и станет в паре с Остерманом да со мной политику делать, — улыбнулся Бирон. — Это одна из умнейших русских голов.
Анна покачала головой.
— Не знаю, — как-то нерешительно произнесла она, — справится ли? Остерман хитёр, знает все ходы и выходы, советы его мне нужны...
И Бирон принялся горячо убеждать императрицу, что Кабинет только выиграет, если посадить в него Волынского. Анна нехотя согласилась...
Так стал Волынский министром в Кабинете, а скоро уже только его одного и допускала Анна к докладам. Артемий Петрович умел так ясно и толково обсказать любой вопрос, что из его рапортов она понимала всё, а при своём здравом смысле и решалась на многие действия.
Но зависть всю жизнь преследовала Волынского. Тупой и желчный князь Александр Борисович Куракин не мог простить Волынскому его высокого положения при дворе и милости императрицы. Он то высмеивал в собраниях вельмож низкое происхождение Артемия, то приказывал придворному пииту Василию Кирилловичу Тредиаковскому сочинять пасквили на кабинет-министра. И, обороняясь от этих мелких уколов, принуждён был Артемий Петрович заявлять, что род его не хуже куракинского или князя Черкасского. Приказал даже нарисовать себе родословное древо. А Волынские действительно вели своё родословие от Волынца, женатого ещё на сестре Дмитрия Донского. Вверху древа изображён был герб императорский, а пониже — герб Московского государства.
Впрочем, эти мелкие уколы зависти не мешали Волынскому деятельно перестраивать работу Кабинета министров. Он стал приглашать на заседания сенаторов, слушал их мнения, и скоро решения вроде бы принимались единолично Волынским, а на самом деле советами и рассуждениями помогал ему в том весь цвет русской аристократии.
И только одного не понял Артемий Петрович: нужен он был Бирону вовсе не для поправления дел государственных, а для войны с Остерманом. Хирагра, гланды, желудок, почки и печень не мешали этому хитрому интригану вести свою сложную игру, и часто Бирон терпел поражение, даже не подозревая, что за всеми кознями стоит Остерман.
Но и Остерман решил воспользоваться помощью Волынского. Намекнул было на это самому кабинет-министру, но увидел такое непонимание и неспособность к интригам, да ещё и прямодушие в высказываниях, что стал действовать и против Волынского.
Но со свойственной ему уклончивостью всё производил он не своими руками, любил интриговать от имени других людей. Так и появилась жалоба на Волынского шталмейстера Кишкеля вместе с сыном его и унтер-шталмейстером Людвигом. Подали они императрице жалобу на будто бы неправильное отрешение их от должности, обвиняя самого Волынского в беспорядках по управлению государственными конюшенными заводами.
Анна отдала жалобу самому Волынскому, но потребовала от него объяснения.
Толково и ясно отписал в своей записке Волынский, что отрешил от должности означенных людей за их воровство и коварство, просил защиты от недоброжелателей, описал свою бедность и заслуги на службе царёвой.
Но, понимая, что жалобщики были подтолкнуты Остерманом, не удержался и присовокупил примечания — какие вымыслы и потворства употребляемы бывают при монарших дворах и какая такая есть закрытая политика. Он никого не называл, но писал, что некоторые из приближённых к престолу стараются помрачать добрые дела людей честных и приводить государей в сомнение, чтобы никому не верили. Безделицы изображают в виде важном и ничего прямо не говорят, а всё в виде закрытом и тёмном, с печальными и ужасными минами, чтобы приводить государей в беспокойство, выказать лишь свою верность и заставить только их одних употреблять во всех делах, отчего прочие, сколько бы ни были ревностны, теряют бодрость духа и почитают за лучшее молчать там, где должны бы ограждать целость государственного интереса.
Не подавая ещё эту бумагу, Волынский давал её читать некоторым лицам. И князь Черкасский так отозвался о ней: «Остро очень писано. Ежели попадётся в руки Остермана, тотчас узнает, что против него». Тайный секретарь Кабинета Эйхлер, генерал Шенберг, барон Менгден, лекарь Лесток в один голос высказали то же: «Это самый портрет графа Остермана...»