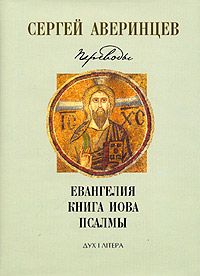…У своих глаз он видел ее глаза. Они были больше, чем у всех, кто есть на земле.
…И в плену жарких, невыносимо слитных объятий он с удивлением, трепетом и болью, не веря себе, всем существом своим, от бронзового замка рук до глаз, что смотрели в ее глаза, и до похолодевших от внезапной догадки пальцев ног, почувствовал, как испуганно бьется ее сердце, отданное неизбежному — и небу, и соловьиному грому, и ему, — сердце невинной.
В этой догадке вдруг слились трели соловьев, горьковато холодный запах ландышей, крик козодоя, звезды над головой и под ногами.
А потом все исчезло. Был мир и в нем человек.
…
Голова женщины лежала на груди мужчины. Оба молчали, словно боялись расплескать то, что несли в себе.
Алесь осторожно обнимал ее, сам не понимая, что с ним. Иной стала ночь. Иными стали соловьи и запах вербовой коры. Исчезла куда-то неистовая, страшная ярость. Разрушенный мир, что еще час назад лежал в развалинах, начал собираться в одно и как будто сам по себе выстраиваться во что-то слаженное. И само ощущение этой гармонии после дымных развалин было счастливым и огромным.
Он никого не ненавидел. Для этого нового, для стыда и гордости, для величия и безграничной глубины нового были доброжелательно-безразличными все враги на земле.
Она тоже лежала неподвижно. И в ее сердце сливались гордость и одновременно твердое понимание того, что она сделала.
Все началось с благодарности. В тот миг, когда одиннадцатилетний мальчик в бесполезном — разве в бесполезном? — протесте, который ничего не мог изменить, крикнул Щуру гневные слова. Это было трогательно и смешно. Она уже знала: чудес на земле не бывает.
И вдруг эти руки сломали шею судьбе. Такие еще тогда слабые, а теперь такие сильные руки.
Началось с этого. И он, младший, вдруг стал всесильным и словно бы старше ее и дороже родных, потому что они дали только жизнь, а вместе с ней рабство, а этот — свободу.
А потом пришло иное. Года три, как пришло. Началось с этой вот картины. Играли «Медею». После первого же спектакля приезжая труппа отказалась играть с нею. «Извините, это просто унизительно для нас», — сказал директор. Она обрадовалась. Все эти римляне, греки, испанцы давным-давно опостылели ей. Почему в пьесах нет обычных людей, какие вокруг? Мужиков в хате, вечеринок на покровa, свадеб, ссор, похорон? Почему нет мещан, панов, корчмы? Почему на сцене двигаются квазииспанцы и на каждом шагу гремит гром? Разве так беден трагическим и смешным наш край? В чем причина?
Он, тот, что рядом, встретил ее у каскада: видимо, ожидал.
— Вот. Это вам.
В комнате она развернула бумагу и увидела хату с корявой белой грушей и багрянец заката на лицах стариков. Старики ожидали. Как тысячи таких на ее земле. Как ее старики, к которым она не вернется, потому что они умерли.
Проревела всю ночь, глядя на цветень, завалинку и ожидание в глазах стариков. А потом поняла, что любит. Потому что никто так не понимал ее… Она знала о разнице в возрасте, в происхождении, во всем… Но она не могла смотреть ни на кого, кроме этого юноши, хотя и понимала всю неестественность того, что она бережет себя для человека, который никогда к ней не придет… Надо было бежать, но она не шла отсюда, ожидая какой-то неведомой отплаты, какого-то служения ему.
Сердце болело из-за того, что с ним сделали. А может, это опять была судьба? Иначе она не могла…
А он лежал и думал, что ему теперь нет иного выхода, как жениться на ней, потому что девушка доверилась ему.
Пускай вопит округа — он им быстро заткнет рты.
На миг в его сердце шевельнулась почти физическая боль и нестерпимая жалость, но он отогнал их. Понимание между ним и той, что была рядом, благодарность за возвращенный мир, где все было в нем и он был всем, благодарность за жертву как будто смелu прошлое. Они были сильнее.
У него будет самая лучшая и самая красивая в мире жена.
— Я, наверное, очень плохая…
— Почему? — спросил он.
— Так не делают, так нельзя… я знаю. Но ты все же обними меня.
— Я хотел сказать тебе то же самое… Но я тоже думал, что так нельзя.
Их улыбки были рядом.
…Опершись на локоть, она смотрела на него.
Не по возрасту мощные плечи, широкая, как у греческих статуй, гладкая грудь. Безупречная форма откинутой головы.
Он тоже смотрел. Руки нежные и тонкие. Волосы искрятся. Глаза во тьме большие-большие.
Гелена перебирала пряди его волос.
— «В багрянопером шлеме и крылатом…»
— Ты помнишь? — спросила она.
— Конечно.
— А тебя я вначале и не видела. Сидит кто-то рядом со старым паном. И вдруг крик. Бог ты мой, какой! Стыдно стало, что кто-то так верит. Я забылась и глянула… Вежа почему то потом ничего мне не сказал.
— Еще бы, — улыбнулся Алесь. — Я даже не заметил тогда, что этот семинарист, автор, подвел к Могилеву… море.
— Нет, не то… Я взглянула и увидела хлопчика — я и сама была дитя. А потом ты пришел и сказал, что чудеса должны всегда сбываться. А я улыбалась, а потом перестала улыбаться.
Он поцеловал ее руки.
— Я очень жалел тебя. И эта жалость была как любовь. И еще было что-то более высокое. Я от него и теперь не могу избавиться… Не верю, что ты здесь, что моя… Это как самое большое чудо.
— Глупенький, я самая обычная.
— Не верю. Мне и теперь кажется, будто ты пришла ко мне, а потом запылает заря и ты поднимешься туда.
— Так и будет. Только не туда, а в дебри. Где даже в полдень тень.
— Что такое? — недоуменно спросил он.
— Потом… И вот ты пришел… Я поняла это как предначертание судьбы.
Улыбнулась.
— Для других довольно банальная история — бывший пан и его бывшая актриса. Но ты никогда не был паном. Ни одной минуты. Послушай, — продолжала она, и он не заметил за ее внешне спокойным тоном чего-то глубоко скрытого. — Ты чудесно читаешь. Помнишь, ты читал нам однажды, когда мы попросили, английские стихи? Лучшее из того, что я когда-нибудь слышала.
— А, помню… «Эннабел Ли» Эдгара По.
И северный ветер дохнул и отнял
У меня Эннабел Ли.
Но ангелы неба и духи земли
До конца не могли, не могли
Оторвать мою душу и разлучить
С душой Эннабел Ли.
Он обнимал ее, а где-то за окном тянулась к звездам вампир-трава.
В могиле, где край земли,
Там, у моря, где край земли.
— Спасибо тебе, — странным голосом сказала она.
Она почти успокоилась. Она все же услышала от него слова любви, хотя и обращенные к другой.
…В этом голосе был легкий акцент, с которым говорят в Драговичах. Акцент, который рождал мягкую жалость, стремление защитить ее.
…Алесь лежал на спине, чувствуя, что какая-то неведомая сила вот-вот, вот сейчас поднимет его, и он, не шелохнувшись, так и поплывет над кронами деревьев, над кручами Днепра. И вдруг что-то толкнуло его, словно оборвав полет.
— Почему ты говорила о дебрях, где даже в полдень тень?
Она почувствовала: пришло время, больше молчать было нельзя. С каждой минутой они все больше привязывались друг к другу. Особенно он.
— Ты не должен. Не должен.
— Я хочу, я люблю тебя.
— Не меня, — сказала она. — Тебе нужна другая. Ты любишь ее. Ты еще не понимаешь этого, но ты любишь ее.
— Нет, — возразил он. — Нет.
— Да, — сказала она. — Эта ненависть — просто ваша молодость. Неуравновешенность.
— Так как же тогда?!
— Ты хочешь спросить — зачем? — Она горько рассмеялась. — Тебе нужны были вера и сила… Большое мужество и уверенность. Твердость. Мальчик мой дорогой, — она гладила его волосы, — ты дай мне слово… Тебе не надо больше никогда быть со мной.
— И ты могла?…
— Бог мой. Это так мало.
— А изуродованная жизнь?
— Я не собираясь ее предлагать кому-нибудь еще… И потом — кто мне ее дал?
Он поверил: переубедить ее нельзя.
— Будь мужчиной, — тихо сказала она. — Рядом или далеко — я всегда буду помнить тебя. Если тебе будет тяжело, как теперь, и никого не будет рядом, я приду. Я даю тебе слово, первый мой и последний.
Он сел, опираясь на одну руку, и начал смотреть в ночь за окном. Он молчал, хотя ему было плохо. Но он стал иным за эти несколько часов. Он теперь ни за что не согласился бы страдать на виду у других. Он понял, что никогда в жизни уже не заплачет, только при невозвратимой потере, которая есть смерть.
Алесь смотрел в ночной парк, где замирали последние соловьи.
Была боль, и было мужественное примирение. Все равно звезды стали звездами, мир миром, а человек человеком.
На Днепре стоял мощный паводок. Выше Суходола великая река разлилась на двенадцать верст. Солнце играло в ней, и рядом с этим могучим сиянием казалось мизерным поблескиванье монастырских куполов на том берегу.
На вспаханных огородах земля была черная, лоснящаяся на отвалах, и ослепительно белые яблони красовались, как невесты. Вот-вот должна была зацвести сирень.