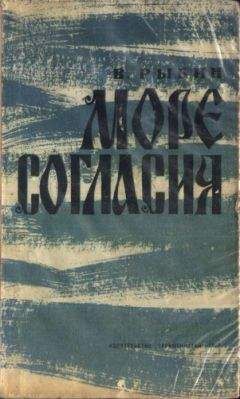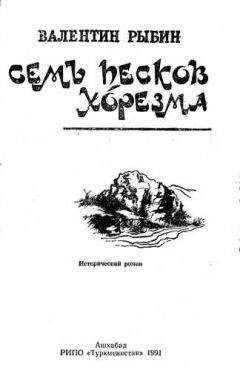— Истинно так, — хмуро подтвердил Ораз-Мамед.
— Эх, Ораз-Мамед, эх, ты, — сожалеючи выговорил Кият и вздохнул.
— Ай, что сделал плохого Ораз-Мамед?! — вскочил тот с кошмы.
Кият потянул его за рукав, чтобы сел, не горячился. Сказал:
— Разве ты не видишь, какие дела завязываются с урусами, с самим ак-патшой? Не сегодня-завтра они поставят на берегу свой караван-сарай, начнут торговать с тобой же, Ораз-Мамед. И с тобой, Мавлям-хан. А вы обижаете их. Вы съедите у них корабль, а потеряете выгоды столько, что можно погрузить на сто таких кораблей. Пока не поздно, верните хотя бы этих двух, которых еще не продали Хива-хану. И добро можно бы возвратить.
Услышав последние слова, Ораз-Мамед и Мавлям-хан вздрогнули и посуровели. Кият понял — верно не возьмешь.
— Разве соберешь то, что взяли?! — возразил с обидой Мавлям-хан, — Люди половину добра в котлах уже сварили, а остальное в свои кочевья увезли.
— Ладно, хан, — уступчиво произнес Кият. — Тех двух матросов отдай и пошли людей за другими, которых повезли в Хиву. Еще можно их вернуть. Клянусь аллахом, как заведем торговлю с урусами, ты за свои благодеяние получишь трижды больше.
Мавлям-хан склонил голову. Ораз-Мамед все еще поглядывал хмуро.
— Кият-ага, не к добру ты заводишь с ними связи, — сказал со вздохом он. Но в голосе его не было прежней уверенности. Кият подумал: «Замажь тебе рот медом да хлебом, будешь служить верой и правдой ак-патше». Помедлив, ответил:
— Будь помягче, Ораз-Мамед, и о тебе побеспокоюсь.
Слуга внес в кибитку чашу с жареной бараниной и свежие чуреки.
Снаружи в юрту доносились голоса, выкрики и смех: это мангышлакцы смеялись над иомудами: пришли, мол, поживиться добычей, да опоздали. Кият не стал долго засиживаться. Пообедав, он сразу собрался в обратный путь. Обоим ханам, выходя из кибитки, обещал отплатить добром за пленников. Мавлям-хан больше не сопротивлялся: повел Кията в соседнюю кибитку и передал ему двух связанных одной веревкой русских моряков. Об остальных сказал без уверенности:
— Аллах даст, может, Хива-хан не купит их, тогда к тебе приведу.
Не задерживаясь больше, Кият отправился в обратный путь. К вечеру достиг стоянки киржимов. Вышедший навстречу Баранов, увидев только двух своих подчиненных, позеленел лицом, схватился за грудь и надолго закашлялся.
— Эх, Василий Федорыч, опоздал ты малость, — всхлипывал Сергеев. Был он в драных чарыках и халатишке: обувь и одежду с него сняли. Точно так же выглядел и другой матрос, Колесников.
Тотчас все сели в киржимы и поплыли на юг, к Челекену, Сергеев торопливо рассказывал:
— Нет, не выходили мы наружу... И знать с себе никому не дали. Но разве корабль спрячешь от чужих глаз — он же не иголка. Разнюхали, стало быть, они. Слышим, стучат, открывайтесь, говорят... Степан Петров возьми да пальни из ружья. Вреда им не принес, а еще больше злости. Выволокли его первым, измолотили всего до бессознания... Ну, а мы не противились больно. Чего уж! Пятеро нас, а их посчитай — пятьсот.
Штурман лежал, укрывшись брезентом, и беспрестанно кашлял. Кият качал головой, думал: «Хоть бы до острова дожил. Простыл, бедняга».
На Челекен приплыли через четыре дня. Баранова, в бреду, положили на брезент и понесли в кибитку. Здесь заранее знали, что Кият привезет пленных урусов, и поставили им белую юрту, в которой раньше жил Муравьев, В ней было тепло. Красно пылал угольями саксаула очаг. Вдоль стенки терима лежали пуховые перины и подушки. Пока матросы осваивались и вздыхали, не помер бы штурман, Кият привел табиба, — седенького старичка. Тот ощупал руки и лоб больного, сказал Кияту:
— Тузлук надо.
Тотчас табиб ушел и скоро вернулся с громадной чашей. Возле юрты развели огонь и бросили в него кусок железа — обломок от якоря. Пока железо нагревалось, табиб налил в чашу воды и бросил в нее кусок соли. Затем покрошил в чашу какие-то снадобья и опять вышел на улицу — взглянуть на железо. Когда оно раскалилось докрасна, табиб позвал двух помощников. Те стали тушить огонь.
Штурмана посадили, поставили перед ним чашу с солью и водой. Двое матросов придерживали Баранова за плечи. Но вот в кибитку вошел один из помощников табиба, неся на лопате красное железо. Ловко он опустил раскаленный кусок в чашу, а табиб накинул на штурмана одеяло. В чаше зашипело, из-под одеяла повалил пар. Баранов закашлялся и замычал.
— Крепче, крепче держите, — сурово проговорил Кият, стоявший рядом. — Это от простуды.
Матросы испуганно глядели по сторонам. Каждый думал: не отдал бы штурман концы.
Но вот табиб сделал знак рукой, и больному открыли лицо. Лицо Баранова было красным, глаза слезились, и по щекам ручьями стекал пот.
— Что... что... что... — пытался сказать он и не мог, мешал кашель.
Сергеев накрыл его с головой одеялом, и моряки вышли из юрты. Кият пригласил всех к себе обедать.
Ночевали все вместе, рядом с больным штурманом. Ночью поднимались, поили кипяченой водой. На другой день табиб повторил тузлучные пары. И опять Баранов потел и исходил слезами.
Дня через три он начал принимать пищу. Кашель поутих, упал телесный жар. Кият сказал весело:
— Теперь не умрет. Теперь всех нас переживет. Моряки повеселели.
Чуть наступало утро, к кибитке, где жили урусы, сходились группами иомуды, находили общий язык и подолгу разговаривали о житейских делах. Моряки охотно рассказывали о своих деревнях, где до службы они жили крепостными крестьянами. Говорили о том, что баре могут делать со своими людьми, что захотят, вплоть до убийства. И челекенская голытьба — полунищая, но свободная от крепостных пут, — удивлялась и хорохорилась: зачем тогда ехать назад в Русею, оставайтесь здесь. Будете рыбу ловить, нефть добывать. Моряки посмеивались. В том-то и дело, что и сюда рука господская доходит. Попробуй упрячься — и отправишься в Сибирь на каторгу.
С особой охотой унтер и трое матросов выезжали на рыбный лов с Кеймиром. Пальван был простым, смышленым парнем, немного понимал по-русски и учил говорить моряков по-своему. Вместе с ним они ставили и выбирали сети, варили и жарили рыбу. Иногда спрашивали Кеймира: почему он не женится, не возьмет мачеху для мальчонки? Пальван сурово молчал. А после продолжительной паузы отвечал лишь тяжелым вздохом.
Баранов поправлялся медленно. Табиб лечил его после тузлучных паров каленым железом, чтобы взбунтовать закисшую кровь. Голова и грудь штурмана были покрыты пятнами от ожогов, но зато постепенно помолодел он душевно: разговаривать стал с ненасытным аппетитом, смеяться стал и даже высказал Кияту, что пора бы отправляться на тот берег, да не на чем.
— Живи пока у меня, Василий Федорыч, — советовал Кият. — Придет весна, купцы приедут, тогда и отправишься на Русею, Неужто плохо тебе здесь?
— Хорошо-то — хорошо, но служба ждет, Кият-ага.
И не знаю еще, чем дело кончится с моим крушением. То ли простят, то ли в солдаты забреют.
— Вот и живи, не спеши. Время пройдет, забудут обо всем.
Баранов, однако, написал письмо, в котором подробив изложил о катастрофе, о своем местонахождении и заботе туркмен. Кият взялся переслать письмо на тот берег; он снарядил Атеке к Махтум-Кули-хану, чтобы тот с первым же купеческим судном отправил бумагу в Баку.
Все лето командующий разъезжал по дорогам Россия в заграницы. В Тифлис он вернулся лишь в середине, декабря. Здесь, как и на Кубани и Дону, властвовала зима. Склоны гор, крыши домов и монастырей, башни Метехи, берега Куры, караван-сараи, цехи кожевенного заводика— все покрылось снегом. Было ветрено и морозно.
Ермолов, однако, не изменил своей привычке: не сел в крытые дрожки. Как всегда при возвращении, въехал в Тифлис на коне, окруженный свитой офицеров и сопровождаемый отрядом казаков. Черная бурка генерала раздувалась на ветру и походила на крылья хищной птицы. Крылья эти, облегая вороную стать коня, делали всадника похожим на мифического героя. Кавалькада проскакала по центральным улицам города, свернула к горам в остановилась против дома главнокомандующего. У бело-колонного крыльца толпилось множество военных и штатских. Среди прочих господ Ермолов увидел усатого Мадатова и сухощавого, сгорбившегося Вельяминова. Рядом стоял Грибоедов. Вяло улыбнувшись командующему, он вдруг перевел взгляд на двух чиновников, одетых в черные плащи поверх шуб, удивленно вскрикнул и, придерживая забинтованную руку, быстро направился к ним:
— Вильгельм! Боже мой, какими судьбами?!
Командующий нахмурился, легко соскочил с коня, бросил поводья ординарцу.
— Баню натопили? — спросил он, обнимая Вельяминова.
— Разумеется, Алексей Петрович. Сразу же, как стало известно о вашем приближении.
— Ну, так объяви всем, Иван Александрович, кто желает попариться — милости просим. — И он на ходу, обхватив Мадатова за плечи, трижды чмокнулся с ним. Спросил с некоторой тревогой: — Дела как, Валерьян?