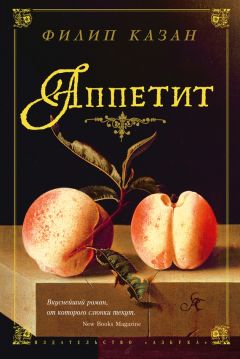– Palle! – выкрикнул кто-то, и все заорали и заулюлюкали.
Кто-то выскочил из толпы и пнул труп. Потом мы все бежали по нефу, а тело шелестело по гладкому полу, подпрыгивая, где натыкалось на выступающую плиту. Мы вырвались на площадь, труп пролетел над тремя невысокими ступеньками – лен треснул, и рука, черная, но все еще толстая, с кожистым блеском, высвободилась и стала болтаться и шлепать. Теперь все бросились вперед, чтобы пнуть, ударить палкой, камнем, цветочным горшком. Саван расползся, и я в последний раз увидел лицо Барони, перед тем как толпа бросилась прочь с площади, оставив меня одного, с дрожащей лошадью. Барони, мертвый и гниющий, выглядел почти в точности так же, как в Ассизи, когда увидел меня на другом конце битком набитого обеденного зала: потемневший от крови, потрясенный и взбешенный. Меня вырвало на стену церкви.
Я вернулся в палаццо. Теперь там было тихо. Кто-то оставил на земле грубый желто-красный шарф Медичи. Я обмотал им шею, привязал лошадь во дворике, подальше от мертвеца, и вошел через переднюю дверь. Дворец был обшарен сверху донизу и полностью разграблен. Не осталось ни драпировок на стенах, ни обрывка занавески, ни одной подушки. Легкая мебель исчезла, тяжелая – бельевые шкафы, комоды – взломана и выпотрошена. Лужа вина заливала пол. Я прошел наверх. Какая-то женщина обрезала занавески мясницким ножом, резала вдоль швов, спокойно и неторопливо. Она увидела мой шарф и вернулась к работе, как будто это было самой естественной вещью на свете. Комната Тессины – второй этаж, левая сторона – была пуста. Постель разодрана, ящики голы. Я принюхался. Воздух тоже был пуст: не чувствовалось ни единого запаха жилой комнаты – вчерашней одежды, ночного горшка, постельного белья, на котором спали, свечного воска. В других спальнях жили. Комната Марко – я определил, что она его, по гигантской кровати из черного дерева и геральдической чепухе, намалеванной по всем стенам бездарной рукой, но самыми дорогими красками: золотой, синей и красной, – воняла блудом, стоялым вином и мочой. Окно было закрыто. Я аккуратно открыл его и вышел.
Дворец гильдии мясников расположен наискосок от церкви Орсанмикеле. Не очень далеко в обычный день от Пьяцца Сан-Ремиджо, но в такой день, как сегодня, я объехал Пьяцца делла Синьория по огромной дуге, забравшись в те части Флоренции, которые едва знал. Как странно вернуться из изгнания и обнаружить, что твой город сошел с ума и заставляет блуждать по незнакомым чужим округам: Колесо, Бык. Пересекая Виа Гибеллина, я бросил взгляд на восток, в сторону боттеги Верроккьо. Где он сейчас, на улицах? Где Сандро? Леонардо? Пекарня с пирогами была закрыта, все харчевни тоже. В воздухе стоял запах крови, но только человеческой. Я порысил на запад, наткнулся на вопящую, взбудораженную толпу близ собора, кричал «Palle!», пока не ощутил вкус собственной крови на задней стенке гортани. Наконец-то вот оно, палаццо гильдии мясников, прямоугольное и практичное, каким и должен быть дворец мясников.
Гильдийцы были во дворе, собрались вокруг костра, на котором исходил паром большой черный горшок. Я увидел его сразу же: мой отец держал длинной вилкой капающий кусок вареной говядины и спорил о нем с кем-то. Я протолкался между людьми – некоторых я узнавал, некоторых знал смутно; но сейчас я чувствовал и понимал их всех, – и тут отец меня заметил. Он перестал говорить и весьма осторожно положил мясо обратно в горшок. Мгновение он стоял и смотрел в него, как будто в вареве происходило что-то важное. Когда он снова поднял глаза… Madonna! Мы оба разрыдались, посреди всех этих толстошеих мясников. Я схватил отца в объятия и плакал как дитя.
Он взял меня за плечи и отодвинул на длину руки, разглядывая. Почему меня так изумляло, что он тоже плачет? Слезы бежали по морщинам на его щеках – морщинам, которых я не помнил. Все прошедшее время вгрызлось и врезалось в его лицо, так что в каком-то смысле он выглядел словно чья-то чужая идея о моем отце, как будто он стал статуей, памятником самому себе. Он поднял руку и коснулся шрама на моем виске, зажал между пальцами седую прядь.
– Это ты, – пробормотал он. – Если бы ты был призраком, то не выглядел бы так ужасно. – Отвернувшись в сторону, он снова притянул меня к себе.
– Все хорошо, папа.
– Я знаю. Я знаю. – Он шмыгнул носом, резко вытер лицо рукавом. – Мне сказали, что сын Бартоло Барони убил тебя в Ассизи.
– Он пытался. Но соврал. А что у тебя? Как ты, папа?
– Как видишь. – Он снова взял вилку и начал тыкать в вареное мясо. Потом поднял голову и почти усмехнулся. – Значит, соврал, а? Хорошо, ладно. Мы отслужили мессу по тебе, Нино. В Сан-Ремиджо. Я подумал, что так ты будешь ближе к матери. – Он поморщился.
Вокруг стояли мясники, и они вдруг перестали рявкать и хохотать. Папа опять поморщился. Потом бросил вилку в горшок.
– Мой сын вернулся домой, – просто объявил он.
Нас окружила жаркая, громкая, потная толпа гильдийцев, они сшибались плечами, как могут только мясники, приветственно вопили и – это не избежало моего внимания – аккуратно выудили вилку из горшка и убедились, что там все в порядке. Я попытался рассказать папе все, что случилось со мной с тех пор, как я исчез. Он кивал, хмурился, хотя, наверное, даже не слышал меня, потому что все говорили одновременно, желая знать о моих приключениях, об этом педике Барони, об Ассизи, о Риме, о розыгрыше – моем изначальном грехе. С одной стороны, я мог с тем же успехом никуда не уезжать, с другой – я и вправду воскрес из мертвых. Оказалось, мой отец совсем недавно закончил двухмесячную службу в качестве приора правительства. Он теперь высоко поднялся в гильдии мясников. Мессер Лоренцо был к нему добр, после того как ты… «Обосрался», – увидел я в их глазах, но без всякого дурного смысла. Время сделало из жалкого простофили, каким я был тогда, удачливого плута. Я вернулся во Флоренцию с самой Фортуной, цепляющейся за мою руку.
Буханки хлеба разрывали на куски и макали в горячий бульон.
– Папа, а Каренца…
– Каренца? С ней все хорошо. Немного плохо видит одним глазом. Ты должен сходить повидаться с ней.
Я собирался ответить, но тут мужчина, который качал меня на коленях, когда я был малышом, а теперь совершенно лысый и с дыркой на месте передних зубов, схватил меня за щеку, сильно ущипнул и в то же время сунул пропитанный бульоном кусок хлеба размером с кулак мне в рот. Я автоматически принялся жевать.
В корочке попадались мелкие комочки солода и отруби и прятался бесцветный не-вкус доброго старого флорентийского хлеба. Змеящаяся кислая сладость говядины, как порфировая плита, пронизанная хрустальной сахаристостью лука, солью и закутанная в землистость карамельность моркови, искры горького тимьяна и мятные масла; бархатные соты жира, а под всем этим…
– Баттута! – сказал я.
– Баттута? Почему бы и не баттута? – Мясник помотал головой, сбитый с толку.
Но город… Он был здесь. Он совсем не испортился, вовсе не сошел с ума. Его просто упихали внутрь, как поднявшееся тесто, и теперь он снова расправлялся, повсюду вокруг меня. Или, возможно, не город, – может, это была просто жизнь. Но что-то вливалось в меня. Я взял вилку, выудил кусок говядины и отошел в уголок.
– Это не твое, папа, – сообщил я, жуя. – А Федериги.
– Нет, оно от Спиккьо, – сказал кто-то.
– Да, но Спиккьо берет бычков у того же человека, у которого брал Федериги.
Спиккьо согласился, что это так. Оказалось, что Федериги, увы, умер. Как и многие другие. Кажется, ушла половина людей, которых я знал с детства… Но это все могло подождать.
– Где Тессина Альбицци? То есть Тессина Барони? Это правда, что она вышла замуж за Марко? – спрашивал я любого, кто встречался со мной взглядом.
«Она уехала. Покинула Флоренцию. Это животное, этот пес, эта свинья… Покончено с Барони и всем их родом… Не знаю, что случилось с донной Тессиной. Бедная девочка. Каким ты дураком себя выставил, Нино, а, помнишь? Но ей на самом деле было бы лучше с тобой…»
– А что, люди помнят ту… ту штуку? Розыгрыш мессера Лоренцо? – спросил я отца, когда мне удалось протолкаться обратно к нему.
– Да про нее песни поют. – Он скривился, как будто лимон откусил. – Но она сделала тебя человеком. Теперь ты мужчина.
– Я готовил пир для его святейшества. Два раза. Я думал о маме. Наверное, ей было бы приятно.
– Наверняка, – кивнул отец. – Но ты уехал из Рима. Что-то случилось? – прямо спросил он.
– Нет. То есть ничего такого. Я вернулся за Тессиной. Я идиот, но я и правда думал, что у меня никого не осталось. Я думал, я одинок, папа.
– А я думал, что это я одинок. Я и был одинок все последние семь лет. Мы оба ошибались. – Он перекрестился. – Что ты собираешься делать?