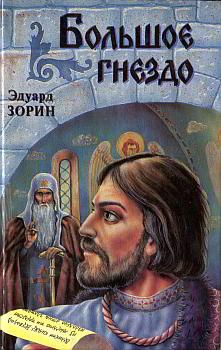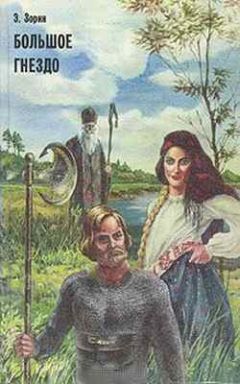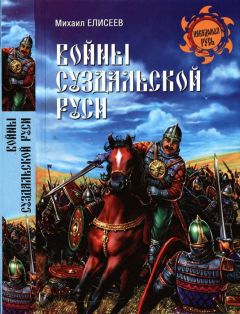Теперь боярин целыми днями лежал на лавке и сосал беззубым ртом медовые пряники. Растолстел Захария, обрюзг: нос посинел, щеки с желтыми бородавками обвисли, живот мешком переваливается через шелковый крученый поясок.
Сначала не поддавался боярин, шумел, покрикивал. А потом стих, потому что понял: «Шуметь мне ни к чему. Родная дочь — не чужая». И зажил припеваючи.
Евпраксия же завела в хозяйстве свои порядки. Дворовых девок отослала в деревню теребить льны, из деревни привезла новых. Сама отбирала. Глядела, чтобы не только статью были хороши, но и лицом. Заборским мужикам велела навозить во Владимир бревен и тесу — ставить во дворе свою домашнюю церковь. Рубили отменные мастера, потрудился над ней и Никитка. За хорошую работу да за старание наградила Евпраксия его золотой серьгой с голубеньким камешком. Похвалила перед Левонтием:
— И гладко стружит, и стружки кудрявы.
— Всякое дело за себя постоит,— согласился с боярыней Левонтий.
Не забывала Евпраксия и Заборье. В Заборье наезжала обозом: сама впереди на легких саночках, за ней на возах вся дворовая челядь. Приедет, оглядит пытливо покосившиеся избы, порадуется на новый терем и призовет к себе старосту. Аверкий на боярский двор шел, подрагивая коленями: боялся он Евпраксии, сторонился ее темного взгляда. Он уж и Любаши стал побаиваться с той поры, как взяла его жену боярыня к себе на кухню. А когда Евпраксия сказала, что забирает Любашу во Владимир, даже вздохнул облегченно.
— Кто в кони пошел, тот и воду вези,— сказал он себе.— Лучше без жены старостой на деревне, чем с женой холопом.
На солноворот увезла Любашу Евпраксия. Перед дорогой, улыбаясь, говорила ей:
— Вона какая красавица. Источил тебя Аверкий. Во Владимире ты у меня княгиней будешь...
Сильные стояли в те дни холода. Недаром в народе говорят: солнце — на лето, зима — на мороз. Ходит зима по полю, рассыпает снег из рукава, морозит по следу своему воду, тянет за собой метели лютые, холода трескучие, будит по ночам баб жарче топить печи.
Грустно расставаться Любаше с Заборьем. Ведь кроме Заборья не видела она другой земли. Слыхала про разные города, про каменные соборы, а когда пыталась представить их себе, то все рисовалась ей заборская церквушка — только чуть повыше да посветлей. А уж как из камня кладут божьи храмы, в толк взять не могла.
И еще говорили ей, что соборов во Владимире не перечтешь, что город стоит на горе, как Заборье, а вокруг него стена, а под стеной — ров, глубокая река, такая же почти, как Клязьма. И ров этот вырыли мужики. «Разве могут мужики вырыть реку? — удивлялась Любаша.— Может быть, и Клязьму когда-то вырыли, чтобы напоить водой леса вокруг Заборья?..»
Прощаясь с Любашей, Аверкий то угодливо улыбался, то начинал совать ей в суму репу и краюху хлеба:
— В городе-то скудно живут, хлебов-льнов не сеют...
— Чай, к боярыне еду,— стараясь скрыть тревогу и радость, переполнявшие ее, отвечала Любаша.
— Боярыня не солнце, всех не обогреет.
Он еще долго семенил по снегу рядом с санями, растерянно старался заглянуть Любаше в глаза. Потом возница взмахнул кнутом, сани пошли бойчее, и староста отстал. Закутавшись в шубу, Любаша проводила взглядом Аверкия, постепенно растаявшего в снежной пелене, и повернулась к вознице — низкорослому горластому мужику с заиндевелой, покрытой длинными сосульками бородой.
— Сам-то, чай, из Владимира? — робко спросила она.
— Сам-то? — полуобернулся к ней мужик.— Сам-то я сосновский да при боярах лет десять стою...
— Ну и как? — нетерпеливо выведывала Любаша.
— Знамо дело, везде хорошо, где нас нет,— загадочно проговорил мужик и, привстав, стегнул вожжами лошаденку.— Эх, ма-а!..
Лошадь всхрапнула, выгнула грудь и понесла еще шибче. Накрениваясь, санки вздымали вокруг себя снежные буруны. Любаша задохнулась от морозного воздуха, засмеялась и с головой накрылась шубой.
А Владимира она так и не увидела: в город приехали ночью. Вот ведь какая обида: всю дорогу боялась проглядеть, а перед городом заснула и пробудилась, когда сама Евпраксия по-мужичьи громко стучала в запертые ворота:
— Эй вы, рогатые орехи!.. Так-то боярыню встречаете?!
Любаша протерла глаза, но ничего не разглядела вокруг, кроме высоких сугробов да торчащего над сугробами зубастого частокола.
Ворота неторопко отворились, возы въехали во двор. На дворе суетились мужики с факелами в руках. Факелы нещадно коптили, искры падали па плечи и непокрытые головы мужиков, на темный блестящий снег.
Загорелись огни и у сенных девок под боярским всходом. Девки выпорхнули на мороз в одних рубахах, окружили Евпраксию, стали высматривать, что в возках. Заглядывали за высокий воротник Любашиной шубы, быстро щебетали:
— Ой, какая красивенькая!..
— Приехали, касаточка,— сказал возница и, заткнув за пояс кнут, спрыгнул с возка.
— Откуда ты? — спрашивали девушки Любашу.
— Из Заборья,— смущенная их вниманием, тихо отвечала она.
— Ключница Мария у нас тоже заборская,— сказала одна из девушек. Кто-то дернул ее за рубаху; оглянувшись, она смолкла на полуслове.
Никто не заметил, как во дворе появилась старуха в темном. Низенькая, горбатенькая, часто переступая маленькими лапотками по утоптанному снегу, она подошла к Евпраксии и с достоинством поклонилась ей:
— С приездом, матушка-боярыня.
— Принимай новенькую,— сказала ей Евпраксия и, гордо выпрямив спину, поднялась по всходу в терем. В терему ее уже ждали, в щели заволоченных окон пробивался свет...
Сунувшись вперед подслеповатым лицом, ключница оглядела Любашу, посеменив лапотками, подошла ближе. Любаша тоскливо оглянулась на притихших девушек.
— Не гляди по сторонам-то,— проскрипела старуха.— На меня, на меня гляди.
Она еще долго рассматривала Любашу, кашляла и шамкала мягким ртом.
— Сказывала мне матушка-боярыня, будто повариха ты, да и ладная,— окончив осмотр, медленно сказала она.— Пойдем, коли так, покажу твое место...
Они пересекли двор, на котором все еще суетились мужики, распрягая лошадей и перетаскивая в бретьяницы кадушки с мукой и медом, желтые круги воска. Спустились по крутой лесенке вниз. Ключница, шедшая впереди, толкнула обитую мешковиной дверь. Сначала за белыми клубами пара в комнате ничего нельзя было разглядеть. Но пар осел, и Любаша увидела камору с низким черным потолком, стол посередине, вдоль стен — простые лавки. У стола стояла перекидная скамья. В углу над бочкой с водой чадила лучина.
Тряся головой, ключница обошла камору, показала костлявой рукой на одну из лавок:
— Тут и будет твое место, девонька. Тут и спи.
Неожиданно приветливая улыбка осветила ее изборожденное морщинами лицо.
— Устала, поди, с дороги-то?
— Устала, матушка,— опустив глаза, призналась Любаша.
— Вот и спи,— кивнула старуха.— Утро вечера мудренее. Утром до свету подыму.
Ключница постучала посошком и тут же вышла, снова напустив в камору клубы белого пара.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Вдоволь пошумев на Волге, еще до зимы ватага Яволода поднялась по Ветлуге и Вохме до речки Юг и ушла в северные леса. Здесь атаман рассчитывал переждать холода, чтобы первой водой снова спуститься на большой торговый путь. С вмерзшей в лед лодии на берег сгрузили взятое у купцов добро, закопали в снег, срубили в чаще избы и вырыли землянки. Но жили не всяк по себе, а как и прежде — все вместе: в общую кучу валили забитого на охоте зверя, в одном котле варили уху, перед сном, собравшись в горнице просторной атамановой избы, распевали привольные песни.
Мошка оживал в ватаге. Рубцевались раны, забывалось старое — глаза его постепенно светлели, на губах все чаще стала появляться улыбка. Приглянулся Мошка атаману,— дня не проходило, чтобы Яволод не наведывался в его землянку. Придет, сымет шапку, возьмет на руки Офоню, посадит на колено и раскачивает, придерживая за ручонки, а сам что-нибудь рассказывает. Обычно они вечеряли вчетвером: Яволод, Мошка, Феклуша и маленький Офоня. Сидя в бабьем куту все в той же потрепанной кацавейке, востроносенькая и веснушчатая Феклуша часто заводила тоненьким голоском какую-нибудь песню. Много знала она песен, но все были грустными, и, случалось, атаман, нахмурясь, прерывал ее: