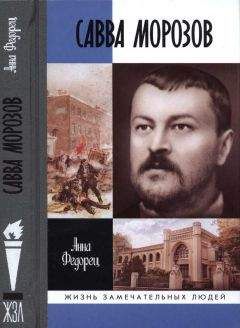Савва Тимофеевич и без его напоминания уже наливал, думая: «Однако, однако. прозорлив!»
— За что же выпьем!
— Если не возражаете, Савва Тимофеевич, — за поклон Зинаиде Григорьевне. Да-да, — с истинным дружеством улыбнулся Крачковский. — Утренним поездом я еду в Россию — по делам, по делам. Кстати, вместе с вашим инженером Красиным — вместе брали билеты, сошлось так.
— Однако, однако! — уже вслух подивился Савва Тимофеевич. — Но поскольку я уже не директор Никольской мануфактуры, стало быть, он уже и не мой инженер.
— Да чего там! Прекрасный инженер, служит в прекрасной немецкой фирме, поставляющей турбины для Никольской мануфактуры. С плохими работниками Морозов дела не имеет. Не имел, пускай и так. Это не мое дело. Отчитаюсь в Петербурге перед начальством — дай опять в милую Европу. Право, космополитом стану! А пока знать хочу — передать ли поклон Зинаиде Григорьевне? И что добавить к поклону?
— Только одно, Савелий Иванович: я жив и здоров, с нетерпением жду женушку.
— Прекрасный поклон. Да и вино у вас прекрасное. Франция! Солнечная Франция. Не сомневаюсь, что с приездом Зинаиды Григорьевны вы именно туда и отправитесь?
— Поживем — увидим, — пожал плечами Савва Тимофеевич, потому что выбор маршрута целиком зависел от прихоти супружницы.
Но полковник Крачковский увидел в этом некий другой смысл.
— Ах, конспиратор!
Во-во, натура брала свое. Хотя ни о какой конспирации Морозов и не думал.
Чем хорош был Крачковский — так именно тем, что долго и надоедливо не засиживался. Сказал самое необходимое, да и ладно.
— Второй бокал — завтра вечером. За компанию с вашим инженером. Надо же, и купе наши рядом оказались!
Он ушел, а Савва Тимофеевич по его уходе подумал: «Нет, ухо с ним надо держать востро!»
Что ни говори, а конспирация и в самом деле не помешает.
Когда в следующий полдень он пришел — сказав доктору, что недолго помоционит, — на набережную, Красин уже поджидал его в соседнем кафе.
— Пожалуй, не стоит мозолить глаза полковнику Крачковскому, — увел он его за свой столик.
— Ну, все о всех знают! Однако ж не думаю, что сам полковник за вами хвостом висит?
— И я не думаю. Как говорится, к досужему размышлению.
Размышлять долго не пришлось. По бокалу кислого немецкого вина выпить не успел, как по набережной ходко прошел, оглядываясь по сторонам, — слева, на реке‑то, он что искал? — да не кто иной, как досужий доктор Селивановский. Савва Тимофеевич невольно прикрылся газетой, которая была в руках у Красина.
Обоим стало смешно.
Савва Тимофеевич достал из кармана небольшой пакетик, со словами:
— Двадцать пять тысяч. Я обещал в прошлом году на вашу горючую «Искру», по совету Максимыча, сто тысяч годовых, и от слов своих не отказываюсь. Надеюсь, и третий, и четвертый взнос сумею отдать. Но дальше — извиняйте. Надоели вы все — во как! — хотел он полоснуть ладонью по горлу. А полоснул никелированным дулом браунинга.
В дурную привычку вошло — рука в кармане. Красин посочувствовал:
— Устали вы, Савва Тимофеевич. А с точки зрения конспирации — и совсем плохо. Кто же пьет вино левой рукой. держа правую в кармане?
Это доброе, в общем‑то, замечание взбесило:
— Да пошли вы все к черту! С вашими горючими газетами, с вашими вонючими партиями, с вашим вечным попрошайничеством!
Не простившись, он ходко выскочил из кафе. И как раз вовремя: туда уже заворачивал доктор Селивановский. Обратным ходом по набережной.
— Да что там делать? Не вино — кислятина! — Ина него рявкнул, но через десяток шагов смягчился: — Что мы, французского не найдем?
— Найдем, Савва Тимофеевич, — не успел отойти от смущения доктор. — Я именно за французским винцом и вышел.
— Не здесь же — на бюргеровской набережной!
Ему трудно было сразу попасть в тон разговора.
Следующий день — следующая же глупая встреча. Андреева!
Они по обычаю опять гуляли с доктором Селивановским. В сущности, он был милейший человек. Мало, что шахматист, помогавший коротать вечера, так и знаток берлинских музеев, как выяснилось. Именно с этой целью они и вышли после завтрака, позднего от нечего делать. Вот тут‑то во всей красе на перекрестке Андреева. Берлин — не Москва, здесь пешеходы пропускали густые потоки экипажей и уже появившихся автомобилей. Андреева вела себя на перекрестке как истая немка. Именно так: посмотри налево, посмотри направо. Она пока что не видела замечательную русскую пару, но ведь сейчас и вправо свою кокетливую головку повернет!
Так оно и вышло. И Морозов решил не играть в неузнавайки. Артистка, чего ж тут такого!
— Ба! — вскричал он. — Дражайшая Мария Федоровна! С театром или без?
— Без, — и плечиками так кокетливо повела, пока он прикладывался к ручке. — Но ваш спутник? Вы меня не познакомили, Савва Тимофеевич.
— От внезапности и приятной растерянности, — расшаркался перед ней не на немецкий — уж на парижский лад. — Да-да, мой милейший доктор. Николай Николаевич Селивановский.
Тот тоже не ударил лицом в грязь, то бишь в чистейший немецкий тротуар. И шляпу приподнял, и приложился как надо. И дал повод Андреевой попенять:
— Все доктора у вас, Савва Тимофеевич. Все доктора! То Чехов, то Вересаев, то здесь уже — снова доктор! Я рада знакомству с вами. Николай Николаевич, — и она заперебирала ножками, тоже как бы расшаркиваясь. — Все под богом ходим. Вдруг как заболею от этой гадкой немецкой кухни? Одно утешение: завтра же в Россию.
«Вслед за Красиным! — подумал Савва Тимофеевич. И еще подумал: — Вот как у вас! Одними поездами не ездите?»
Знакомя Селивановского с Андреевой, он расточал похвалы Художественному театру, а Селивановский поддакивал:
— Да-да, прекрасно. «Чайку» и я, грешный, смотрел. «Вишневый сад». Вот на «Дне» не бывал. Жаль, все говорят.
— А вы не слушайте, — маленько подстраховал ретивую Андрееву. — Успеем и на самое дно скатиться. Не так ли, милейшая Мария Федоровна?
— Вы, Савва Тимофеевич? Вы никогда не скатитесь. В здоровом теле — здоровый дух!
Тело она, пожалуй, и знала, но что толковать о духе? Лучше продолжать телесное знакомство — в смысле услаждать российское обжорство.
— Мы с Николаем Николаевичем от безделья намерились было в музей, но какие музеи с женщинами?
— Никаких музеев, — с самой непосредственной игривостью взяла она обоих под локотки. — Я проголодалась, а обедать в здешних ресторанах боюсь. Вы подыщете что‑нибудь неотравное?
— Подыщем, — первым Селивановский согласился.
— Без смертельных котлет, — со всей определенностью добавил Морозов.
Оставалось дело за малым: взять да выполнить достойно свои обещания.
Но дальше‑то, вечером, что?
Селивановский был чутким человеком, как и положено доктору. Он вдруг смущенно признался:
— У меня здесь, в Берлине, старинная приятельница объявилась.
Савва Тимофеевич, ловелас отменный, его ухищрения заметил и только хмыкнул:
— Старовата ли старинная приятельница‑то?
Селивановский лихо вышел из затруднительного положения:
— Если сравнивать с прекраснейшей Марией Федоровной.
— Да ладно, Николай Николаевич, отпускаем.
За разговорами они пришли уже домой, — если можно назвать домом гнездовье полковника Крачковского, — и теперь не знали, чем дальше заняться. Выпить — выпито порядочно, поесть — наелись по-русски, на ночь глядя. Надо было или провожать Марию Федоровну в гостиницу, или.
— Все‑таки долго не задерживайтесь, придется и вас взять в провожатые. Ночь надвигается, страшновато как‑никак.
— Часа в два управлюсь, — залихватски пообещал доктор, сбегая вниз.
Этого выгнал, но разлюбезную пассию не выгонишь, хотя его в сон тянуло. Но и тут выход нашелся в деловом предложении:
— Обсудим, посланница Красина, наши финансовые делишки?
Она была удивлена такому приятельскому началу. Но смолчала, нахохлившись.
— Все, что лично обещал Красину, дам. Тебе же, Мария Федоровна, оставлю векселек.
— Да ты что, Савва, уезжаешь куда? — удивленно подняла она брови.
— Уезжаю. Туда!.. — правая рука у него уже привычно дернулась.
Мария Федоровна вскрикнула, заметив холодный проблеск металла.
— Ну вот. — смутился Савва Тимофеевич. — Несвойственная революционерам пужливость. А еще ниспровергать всех и вся собираетесь!
— Этим пусть мужчины занимаются. Мое же дело. Иль я не женщина?
— Теперь не женщина. Теперь — векселек!
Он подбежал к письменному столу, пощелкал ящиком и сел писать. И всего — то несколько слов, долго ли? Вписать в банковскую бумажку все, что заблагорассудится. Больше ста тысяч рассудить — ссудить, безвозвратно, конечно, он не мог. Да и то — не жирно ли? Запечатывал вексель в конверт сердито. А говорил уж совсем загадочно:
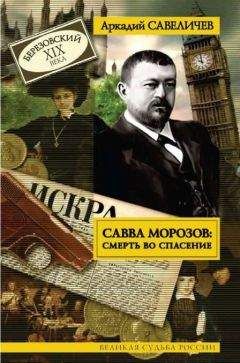


![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)