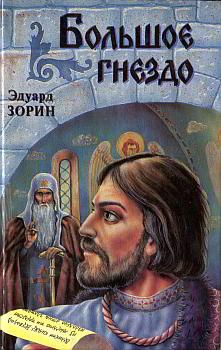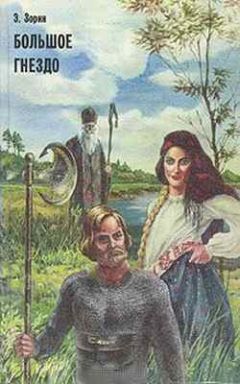Отшатнулся староста, заслонился рукою, заблажил:
— Вобей енто, Вобей! Признал я его.
Но Вобей, не оборачиваясь, уже шел размашистым шагом к леску…
Давно отслужили в Успенском соборе вечерню, разошлись богомольцы, опустело торговище, закрылись в посаде мастерские, потухли горны. Закрыли Золотые, Серебряные, Медные и Волжские ворота, возле боярских усадеб, постукивая колотушками, прохаживались одни только ночные сторожа. Отшумели пиры, разбрелись по домам бражники. Тихо во Владимире, тихо и благостно, псы и те побрехивают с ленцой…
Спят бояре на пуховых перинах, в высоких теремах, видят приятные сны; спят на лавках под шубами бронники, тульники, бочечники, древоделы и мостники, клобучники, белильники и камнесечцы; сползлись в свои смрадные норы лихованные [172]: снится им хлеба краюха да кваса жбан.
Не плещут весла на Клязьме, прижавшись к исадам, сонно покачиваются на спокойной волне большие и малые лодии, поникли спущенные ветрила…
Лишь за рекой, на болонье, полощутся тут и там разбросанные огни костров — это холопы, сменяя друг друга, пасут в ночном боярские табуны. Каких только коней не встретишь на лугу: и вороных, и гнедых, и буланых. Есть там и ливийские красно-коричневые жеребцы, и златогривые красавцы из Византии, и сухопарые кони со змеиной шеей, привезенные булгарскими купцами с далекого Востока. За каждого из них не одной гривной кун [173] плачено, за каждого холоп в ответе.
Нынче поредели табуны: многих коней взял с собою князь, но Однооков табун почти не тронут. Ушли с ним в поход худые лошаденки, а лучшие кони, краса и гордость боярского табуна, остались во Владимире.
Сидели холопы вокруг костра, запекали в углях репу, рассказывали про свое житье — о чем еще мужику говорить? Жаловались на великие тяготы, но не роптали, поругивали жен своих и соседей, но бед на их голову не призывали. Мирились и с женами, и с соседями, и с тиунами, и со старостами. Все богом в мире устроено, а им пасти лошадей…
— Глянь-ко, — сказал кто-то, — кажись, саврасого к реке понесло. Пугни-ко его, Гаврила…
Чернобородый детина неохотно встал и направился во тьму. Слышно было, как он добродушно поругивался и отгонял коня от воды. Потом все стихло. Кони стояли вокруг костра, глядели в огонь красными глазами.
Гаврила вернулся, почесал затылок:
— У саврасого бабки побиты, надо бы поглядеть. Шепни, не то, конюшему, Тимоха. Хромает он…
— Пущай хромает, не моя забота, — отвечал Тимоха, пошевеливая веточкой в костре почерневшую репу. — Вон у гнедого мягкое копыто, а до сих пор не подкуют. Мне, что ль, вести его в кузню?..
— Оно так, — сказал Гаврила, садясь поближе к огню. — А жаль хорошего коня.
— Твое дело стеречь, вот и стереги… Спокойно ли вокруг?
— Да спокойно. Надысь, как сгонял саврасого, вроде бы челнок на Клязьме привиделся… А то тихо.
— Тихо, — передразнил его Тимоха. — А челнок — чей?
— Бог ведает, я не спрашивал…
Лицо у Гаврилы было плоское, с далеко отставленными друг от друга сонными глазами. В унылой бороде висели сухие травинки.
Тонкий и юркий Тимоха живо вскочил от костра и заковылял по лугу согнутыми в колесо ногами.
Долго его не было. Когда возвратился, Гаврила дремал сидя, покачиваясь из стороны в сторону, большой, взъерошенный. Тимоха потряс его за плечо.
— Чаво ты? — встрепенулся Гаврила.
— Вставай, слышь-ко…
Гаврила потянулся и покорно встал, сон все еще пошатывал его.
— Кажись, челнок-то к нашему берегу пристал, — сказал Тимоха.
— Пущай стоит…
— Да как же пущай стоит-то, ежели на ентой стороне?! — потряс мужика Тимоха.
Так и не проснувшись, Гаврила пробормотал:
— У саврасого бабки побиты…
— Леший на тебя! — выругался Тимоха. — Аль вовсе со сна одурел? Вот завсегда с тобою так. Утром скажу конюшему, чтобы другого прислал на луг мужика, тебя попроворнее.
Гаврила открыл глаза и с удивлением уставился на Тимоху.
— Ты — чо?
— Челнок, говорю, на нашем берегу.
— Какой челнок?
— А тот, что давеча на реке видал.
— Да нешто к нам прибился? Кого бог принес?..
— Не сказался гостюшко. А так смекаю я, что человек недоброй. Почто не идет к огню?
Мужики с опаской посмотрели во тьму. Но все вокруг было тихо. Лошади фыркали и похрумкивали траву.
— Поглядеть бы, — сказал Тимоха.
— Он те поглядит!..
— А топоры на что?
Взяв топоры, мужики тихонько двинулись от костра к берегу. Жались друг к другу пугливо, умеряли небыстрый шаг. Потом и вовсе встали, затаив дыхание, прислушались.
— Привиделось, разве? — прошептал Тимоха. — Отселева челн видал, а нынче нет его.
— Можа, бревно приволокло? — сказал Гаврила.
— Можа, и бревно… А так явственно зрил — ну как есть челн.
— Зря будил ты меня, Тимоха, — упрекнул Гаврила. — Теперя не усну… Чаво расшумелся, как воробей на дождь?
— После поздно бить сполох.
— А и зазря неча в трубы трубить… Жилами спокою не нажить, а чего бог не даст, того и не станется. Пойдем обратно к костру — зябко тут…
От реки надувало холод, волна шелестела по белому песку и откатывалась в темь.
Сдаваясь на уговоры Гаврилы, Тимоха сказал:
— Глянем-ко поближе. Ежели нет челна, так и с плеч долой…
Плескался ветер в темных кустах, мерещилось всякое. Сжимая топоры, мужики обшарили весь берег. Тимоха вздохнул облегченно.
Шли обратно, не опасаясь.
— Эко пугливой какой ты стал, — подшучивал над ним Гаврила.
— Станешь пугливой, как отведаешь боярских батогов. В запрошлом годе увели у Сидяка кобылу, так холопа его забили насмерть.
— Ничо, у нас не уведут.
Снова сели к костру, выковырнули из-под угольев поспевшую репу. Перекатывая черные комочки с ладони на ладонь, подшучивали над своими страхами.
Вдруг из-за протоки, взорвав дремотную тишину, раздался громкий топот. Тимоха репу швырнул в костер, взвился на ноги:
— Увели-и!
Побежал по луговине на топот, спотыкаясь и падая. Гаврила рядом с ним размахивал руками, бежал тяжело, с грудным надсадным дыхом — ругался сполошно.
На светлой закраинке неба мелькнула на миг и скрылась за холмом темная фигура всадника.
Тимоха упал на землю, схватившись за голову, катался в мокрой траве.
Гаврила рядом стоял, опустив враз обессилевшие руки.
— Вот те и бревно, вот те и саврасый с бабками. По ходу я угадал — лучшего коня из табуна увели, половецкого атказа [174]. Спустит с нас Одноок шкуру, живыми с его двора не уйдем…
— Батюшки-святы! — всплеснул руками Гребешок, увидев подъезжающего к мельнице на коне Вобея. — Да где же ты, шатучий тать, этакого атказа раздобыл?
— У боярина Одноока за гривну кун купил.
— Врешь.
— А ежели вру, так почто спрашиваешь? — задиристо сказал Вобей и спрыгнул наземь.
Ранний был рассвет, едва брезжило. Разминаясь после долгой езды, Вобей подрыгал ногами, похлопал себя по бокам.
— Вижу, Гребешок, понравился тебе конь.
От страха у мельника все похолодело внутри. Пять ден смирно сидел Вобей, один только раз высунулся — вернулся, будто из болота, мокрый, но веселый. Показал Гребешку перстенек:
— Хорош?
Перстенек был с рубином.
— Невинную душу загубил? — спросил упавшим голосом мельник.
— Со дна речного достал…
Не поверил тогда Вобею Гребешок — у Лыбеди, чай, дно перстеньками не выстлано.
Дунеха, разглядывая на свет прозрачный камушек, вздыхала и закатывала глаза. За всю жизнь свою мельник не намолол ей муки на этакий перстенек.
Снова не спала она в ту ночь, чаще прежнего вставала испить водицы, перелезала через мужа, смотрела на похрапывающего Вобея с нежностью, задевая то плечом, то локтем, старалась разбудить его. Но Вобей спал крепко, еще крепче держал слово, данное Гребешку. Не время было ему тревожить мельника, надежно хоронился он в его избе…
— На что тебе конь, Вобей? — спрашивал беспокойно Гребешок. — Его, как перстень, в кармане не утаишь.
— А тебе и не вступно? Тебе и на ум нейдет? — загадочно ухмылялся Вобей.
— В дружину, что ль, ко князю наладишься с ворованным конем?
— Почто ко князю? Я сам себе князь… А коня схороню в лесу.
— Кто ж кормить-поить его будет?
— Ты и будешь, Гребешок.
— Ишшо какого лиха мне на загривок?! — закричал мельник, отмахиваясь от Вобея.
На разговор мужиков вышла заспанная Дунеха, увидев атказа, всем телом затряслась от восторга. Вобей сказал:
— Хорошего коня привел я, Дунеха?
— Ой, какого коня-то — лебедь-птица, а не конь. Эк копытом-то землю роет — будто мужик норовистой…