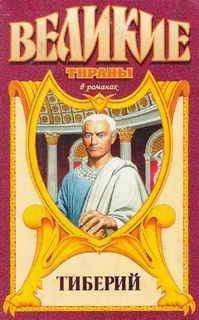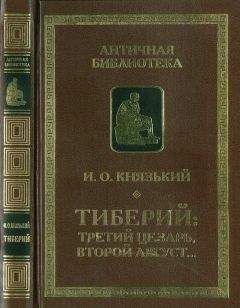Урна с прахом была поставлена на носилки, которые от Брундизия до Рима должны были нести на плечах гвардейские офицеры. В знак траура со значков когорт были сняты украшения, ликторы держали фасции и топорики опущенными вниз. На всем пути до Рима к погребальной процессии стекалось множество людей — отдать последние почести. Почти все чувствовали одно и то же — пока был жив Германик, можно было надеяться на справедливость, на то, что перед глазами власти — Тиберия в первую очередь — всегда будет образец римского гражданина, и по нему, хочешь не хочешь, придется сверять свои поступки. Теперь же Германика нет и заменить его некем.
Когда процессия прибыла в столицу, выяснилось, что Тиберий издал указ, в котором предлагалось не оказывать Германику никаких особых почестей по сравнению с другими славными римлянами: его похороны должны состояться по высокому рангу, но не превышающему принятых в таких случаях норм. Погребение Германика уже состоялось в Сирии — разве он не был там предан сожжению? И если устраивать ему повторные похороны в Риме, то это может разгневать богов.
Тем не менее указ не был выполнен — хоронить своего любимца взялся римский народ, и даже гвардия не стала бы мешать в таком деле. Преторианцы ослушались бы и своего грозного Сеяна, потому что видели — настроение в городе слишком взрывоопасное, это не то что беспорядки из-за плохого снабжения хлебом.
На Марсовом поле собрались представители всех сословий — получилось нечто вроде стихийно организованного комиция[68]. Голосованием по каждому пункту постановили, какие именно посмертные награды должен получить Германик.
Имя Германика отныне провозглашалось в песнопениях жрецов; всюду, где отведены места для августалов[69], будут установлены курульные кресла с его именем и дубовыми венками над каждым креслом; перед началом цирковых зрелищ должно выноситься его изображение из слоновой кости; фламины или авгуры, выдвигаемые на его место, должны выбираться из рода Юлиев. В честь Германика сооружались триумфальные арки — в Риме, на Рейне и в Сирии, на горе Амане, — с надписями, оповещавшими о его деяниях и о том, что он отдал жизнь за отечество. Устанавливалось множество его статуй и кенотафов[70] — во всех местах, связанных с его именем. Сословие римских всадников присвоило имя Германика сектору амфитеатра, который раньше назывался Сектором младших, а также постановило, чтобы во время июльских ид отряды всадников следовали позади его статуи. И так далее, и так далее — трудно перечислить все, чем хотели граждане Рима выразить свою любовь и скорбь.
Тиберий вмешался только один раз — когда было предложено поместить золотой щит с изображением Германика среди таких же изображений знаменитых ораторов и писателей. Размер щита хотели сделать большим, чем у других, но Тиберий на заседании сената заявил, что этого делать не следует: ведь красноречие оценивается не по высокому положению в государстве и пребывать среди древних писателей уже само по себе достаточно почетно. К тому времени страсти немного поутихли, общий гнев, отвлекшись от Тиберия, переместился на Пизона и Планцину, прибытия которых на суд ожидали со дня на день, — и предложение Тиберия было учтено. Он и сам почувствовал, что перестал быть главным обвиняемым в смерти Германика, и воспрянул духом.
Когда Агриппина, найдя в себе силы побороть отвращение, явилась к Тиберию во дворец, он принял ее довольно холодно — ведь никто еще не опроверг сведений о том, что Германик и Агриппина готовили в Сирии заговор. Она стала жаловаться на Пизона, причем упрекала Тиберия в том, что он слишком доверял губернатору Сирии, и потому Пизон считал себя неуязвимым — и решился сделать то, что сделал. Агриппина полагала, что говорит достаточно мягко и политично для вдовы, терзаемой горем и желающей об этом заявить, к тому же она помнила обещание, данное мужу, — не злить Тиберия понапрасну. Но и такая речь привела его в раздражение. Он прервал Агриппину поднятием руки и медленно произнес:
— Не тем ли, дочка, ты оскорблена, что не царствуешь?
После чего повернулся к ней спиной и ушел, шаркая своими огромными ступнями.
Этот случай стал в Риме широко известен. Его наперебой обсуждали, всегда приходя к одному выводу: кажется, Тиберий решил не ограничиваться только Германиком, и жизнь Агриппины и ее детей отныне будет находиться в не меньшей опасности.
Пизон и Планцина приехали в Рим в самом конце года. Несмотря на то, что Германик был похоронен уже около месяца назад, гнев народа против этой супружеской четы не остыл. Поднявшись на корабле по Тибру, они сошли на берег возле мавзолея Августа, чтобы по Фламиниевой дороге добраться до дому. На берегу их ждала возмущенная толпа — и Пизона и Планцину, несомненно, побили бы камнями, если бы Пизон, заблаговременно предупредив о своем приезде, не распорядился обеспечить себе охрану. Он поначалу обратился даже к Друзу Младшему, прося его заступничества как бы в знак благодарности за то, что Друз теперь вышел из тени Германика и стал более заметной фигурой в государстве. Но Друз, к его чести, холодно ответил Пизону, что не может быть заступником убийце своего брата и пусть Пизон не надеется уйти от возмездия.
Пизон и Планцина поселились в своем доме, ожидая суда и вмешательства Тиберия и Ливии.
Тиберий же медлил с судом: он боялся, что при разбирательстве дела всплывут нежелательные факты. Просто так объявить Пизона невиновным было нельзя — это могло послужить сигналом к началу бунта. Но волнений также не избежать, если Пизон, спасая себя и супругу, начнет выставлять Тиберия и Ливию главными виновниками. Тиберий был и растерян и одновременно взбешен. Зачем этому идиоту Пизону потребовалось появляться в Риме? Только для того, чтобы показать всем, каким доверием императора он пользуется? Ему бы отсидеться где-нибудь, пока не утихнет шум вокруг Германика! Может быть, удалось бы устроить его на теплое местечко где-нибудь в Галлии, где он преспокойно прожил бы еще несколько оставшихся ему лет жизни. Но старый наглец хочет непременно быть оправданным с помощью Тиберия по суду, да и еще ведет себя так, словно Тиберий ему невесть чем обязан! Хорошо бы послать ему с Планциной угощение к обеду, которое Ливия приправила бы как положено. Но не получится — римский народ хочет сохранить Пизона до суда живого и трибунам поручено держать его дом под наблюдением.
Стремясь найти выход из трудной ситуации, Тиберий предложил сенаторам, чтоб расследование дела и все допросы Пизона проводил один человек — Валерий Мессала. Он надеялся, что глупость Мессалы, вошедшая даже в поговорку, превратит процесс в затяжной и запутанный спектакль, не лишенный забавности. Но сенаторы единогласно отвергли кандидатуру Мессалы, не боясь его этим обидеть: дело было слишком серьезное, народ сразу бы раскусил, что из суда устраивают фарс. Впрочем, Мессала даже и не заметил, что ему нанесено оскорбление. Большинство сенаторов стали требовать от Тиберия, чтобы расследование вел лично он. Тиберий отказывался, ссылаясь на то, что он — лицо заинтересованное, да к тому же уже стар и слаб (обычная его присказка в сенате), и потому не сможет выдержать напряжения этого процесса. Выбор председателя суда продолжался.
Тут и до Пизона дошло, что Тиберий вовсе не горит желанием защищать его. Он начал нервничать, обратился к нескольким сенаторам, которых хорошо знал, с просьбой взять его дело. Но бывшие знакомые шарахались от Пизона, как от чумного, и если удостаивали его отговорками, то самыми смехотворными — ему стало ясно, что от него отвернулись все и общественным мнением он давно приговорен.
Пизон уже не мог никуда бежать — он очутился в ловушке. Он заметался, ища спасения, — и прибежал к Тиберию, добившись у него аудиенции. И, оставшись с ним с глазу на глаз, сообщил, что у Планцины есть один небольшой, но очень важный документик, который может спасти его, Пизона, жизнь. Тиберий презрительно спросил, что же это за документик, и узнал, что это письмо Ливии Планцине с прямыми указаниями от имени Тиберия, то есть официальное разрешение на убийство.
Пизон совершил ошибку — страшную, но не последнюю в жизни. Тиберий перепугался и разозлился на мать. Оказывается, Пизон был еще опаснее, чем думалось. Огласи он в сенате это письмо — и в тот же день Тиберия с Ливией крючьями сволокут по лестнице Гемоний в Тибр — и никто в Риме пальцем не шевельнет, чтобы помешать наказанию такого немыслимого злодейства, как заговор против всенародного любимца Германика. Сделав над собой чудовищное усилие, Тиберий постарался успокоить Пизона тем, что пообещал ему всяческую поддержку, и тем, что сам возглавит разбирательство — и поскорее выпроводил его. После этого бросился во дворец Ливии.
Та была перепугана не меньше Тиберия: еще ни разу в жизни она не видала сына таким свирепым.