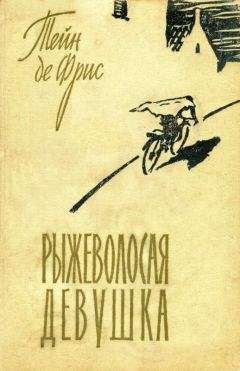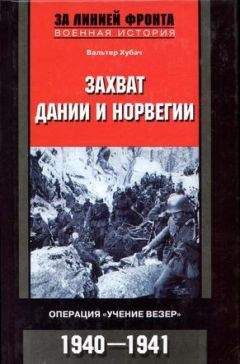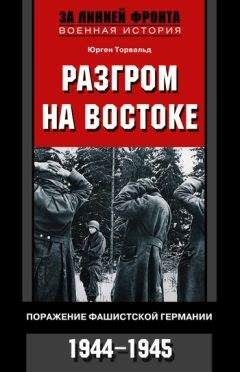Он замолчал и через мое плечо оглядел лестничную клетку. Темнота в глубине коридора производила неприятное впечатление. Мое сердце забилось еще сильнее. Он сказал «мы»… Кто это «мы»? Я вдруг представила себе кафе, пошлое, битком набитое кафе, немцев в зеленой и серой форме, красивую молодую брюнетку, привлекающую внимание посетителей, и ее неизвестного друга, который из-за нее также, быть может, привлекал к себе взгляды — но совсем другие… И это моя подруга, на которую я полагалась! Я взглянула на фотографа и попыталась говорить спокойно.
— Кажется, я понимаю вас… Что-нибудь случилось?
Он как-то робко, нерешительно покачал головой:
— Нет, ничего, пока мы там были. Ваша подруга и художник ушли раньше нас. Я только заметил, что две серые мыши, два кривоногих карлика слишком долго и подозрительно глядели на вашу подругу. Да и одета она была слишком нарядно, это бросалось в глаза. Рядом с карликами сидел молодчик из уголовной полиции. Все трое сдвинули головы поближе друг к другу и очень внимательно поглядели вслед парочке, даже слишком внимательно, по моему мнению.
Он на минуту остановился и немного испуганно посмотрел на меня.
— Не думайте, что я придаю этому событию больше значения, чем оно заслуживает. Но вы знаете свою подругу лучше, чем я. Я только хотел предупредить.
Я молча кивнула и пошла к себе на чердак, а он остался возле раковины со своими ванночками. Уже поднявшись к себе, я почувствовала, как дрожат у меня колени. Я села на Танину кровать и начала шептать, как будто Таня лежала здесь и могла слышать меня: «Таня… Ты поступаешь безрассудно… Обещай мне, что никогда больше не будешь так делать. Обещай мне, ради бога…»
Думаю, я просидела так очень долго. Я снова слышала разнообразные звуки переполненного людьми дома. Не хватало только стука молотка. Я испытывала огромную усталость. Я дрожала от нервного напряжения, от ледяного холода, который царил теперь на чердаке. Потом я встала с кровати, решив отправиться в город и разыскать Таню, но, еще не дойдя до двери, поняла, что поступаю неразумно, и начала нервно шагать по комнате. Тут мне пришло в голову, что фотографы могут услышать мои шаги. Они не должны знать, что я нервничаю. Что мне о них известно? Я опустилась на колени перед печуркой и стала механически набивать ее щепками и бумагой. Заметив, что на руки капают слезы, я принялась яростно шуровать в печке.
Я побледнела от волнения, когда ближе к полудню явилась Таня. Она принесла с собой свежее дыхание зимы. Щеки ее разрумянились, широко раскрыв руки, она бросилась мне на шею и поцеловала меня. Я почуяла запах табака, солоноватый холод уличного воздуха в ее волосах и еще какой-то еле уловимый отпечаток ее сумасбродного похождения.
— С Новым годом, Ханна! — сказала она.
Я пробормотала то же самое традиционное поздравление. Бог знает, чего только я ей не желала в Новом году: прежде всего сохранить жизнь, драгоценную жизнь, которая подвергалась опасности. Я тихонько оттолкнула ее. Она смеялась, сбрасывая с себя пальто и протягивая руки к горящей печке. Ее глаза сияли каким-то глубоким светом, взгляд ее был красноречивее слов. Вдруг она испытующе посмотрела на меня:
— Ханна, что-нибудь случилось? Все ли благополучно у вас дома? Или…
Я покачала головой. У меня язык прилип к гортани. Сердце сжалось в твердый комок. Я люблю Таню и должна сказать ей правду. Я отвернулась, она быстро подошла ко мне.
— Ну скажи мне, скажи! Что-то не в порядке!
Запинаясь, я проговорила:
— Да, не в порядке. Твои дела не в порядке. Вчера вечером ты ушла и — вместе со своим другом — находилась там, где тебе угрожала смертельная опасность!..
Ее лицо омрачилось. Она упрямо сжала губы и надулась, как ребенок. Затем снова повернулась ко мне:
— У тебя теперь есть собственная разведка? Что тут особенного, если я и была в кафе?
Я пропустила мимо ушей замечание о разведке и продолжала говорить.
— Я не знаю, кто твой друг и чем именно он занимается… Я не должна и не хочу знать… Но ты-то ведь знаешь. И как же вы ведете себя… бог ты мой!
Выпалив это единым духом, я понизила голос, до смерти боясь, как бы не услышали соседи — под нами и рядом с нами, — и наконец хрипло сказала:
— И это называется нелегальное положение! Ты играешь со смертью! Я тебе запрещаю это — отныне и навсегда!
Таня глядела на меня с оскорбленным видом, насупив брови.
— Я узнала об этом случайно, — продолжала я. — Одному богу известно, сколько раз ты вытворяла подобные глупости… Ты, конечно, наивно воображала, что для маленьких зверушек всего безопаснее в логове льва!..
Только тут Таня вся сжалась, словно в ней проснулось сознание вины.
— Ханна, — робко сказала она, побледнев от испуга. — Я была там один-единственный раз. Клянусь тебе… В первый раз потребность видеть людей заставила нас пойти туда. Он привык бывать среди людей.
— Среди людей? И ты называешь людьми торговцев черного рынка, мошенников, немецкую полицию, доносчиков разных мастей?
Мое возбуждение все усиливалось:
— Покончи с этим, ты понимаешь? Ну, ради бога, неужели мне надо на коленях умолять тебя? Покончи! Я не хочу, чтобы ты очутилась в Польше!
Наступила тишина. Озадаченные и беспомощные, глядели мы друг на друга. Но вот Таня разразилась слезами. Она бросилась на кровать и, закрыв лицо руками, всхлипывая, невнятно бормотала:
— Я не могу больше так жить… Вот уже третью зиму идет война. Каждый день и каждую ночь бояться за него… до чего хочется хоть раз поступить так, будто жизнь у нас идет нормально… даже если это легкомыслие!.. Я проклинаю их, проклинаю!
Несколько секунд я стояла неподвижно, не в силах помочь горю подруги. Затем я сильно тряхнула ее. Она замолчала. Я принесла ей воды. Она пила, и зубы ее стучали о стакан. Потом она улеглась снова и закрыла глаза — такая изящная, стройная, хрупкая в своем тонком и пышном нарядном платье, в шелковых чулках и красивых туфлях; ее лицо наполовину скрыли рассыпавшиеся густые волосы. Я глядела на нее, и сердце мое сжималось. Мне казалось, она лежала в гробу в подвенечном платье…
Тяжелее всего было одиночество. А в эти дни я чувствовала себя все более одинокой…
Я жила кое-как. Ела когда попало. Часто поздно ложилась спать. Таня рассказывала мне, что я сплю беспокойно и иногда разговариваю во сне. Встревоженная, я спросила ее, что же именно я говорю. Таня засмеялась:
— Не тревожься, только психиатр может придавать значение чепухе, которую ты несешь.
— А я не придаю значения психиатрам, — сказала я.
Мы посмеялись, но я поняла, что, несмотря ни на что, долгое одиночество истощило мою нервную систему. Я прерывала занятия, собственно, лишь в том случае, когда мне хотелось растянуться на кровати и по старой привычке — дурной привычке, как говорят мои знакомые, — «поразмыслить над собой». Иногда я брала томик из Таниных книг и перелистывала его. Мои собственные книги, кроме Гейне и Рильке, казались мне настолько пустыми и неинтересными, что я спокойно оставляла их в пыльном углу. Меня заинтересовали в Танином шкафу переводы русских романов: «Цемент», «Тихий Дон», «Мать»… Новые имена запечатлелись у меня в мозгу: Шолохов, Гладков, Фадеев. Но дело не только в этом. Книги эти рассказывали мне о народе, который с такой самоотверженностью защищал от гитлеровцев Сталинград и Ленинград. Я должна знать о них больше, гораздо больше… Я читала статьи и брошюры Маркса, Ленина и Сталина, читала о колхозах, о национальной политике, о пятилетних планах и электрификации. Многое из прочитанного я забыла, далеко не все было одинаково интересно для меня. Меня интересовали люди, судьбы народов Азии, из бездны суеверий и мрачного невежества поднявшихся к знанию; интересен вали судьбы прежде отверженных и эксплуатируемых, которые вдруг открывают в себе талант художника или исследователя, судьбы женщин, которые осознали наконец свое человеческое достоинство и сбросили ярмо рабства; я читала о рабочих-металлистах, ставших командирами Красной Армии, и о деревенских парнях, формирующих конную дивизию; замечательна была и судьба одной домашней хозяйки, которая после 1917 года впервые в жизни прочла биографию Юлия Цезаря и до того была поражена возможностью познать прошлое, что стала учиться, и теперь она — профессор Московского университета… Меня увлекли судьбы этих простых людей, ранее безыменных, которые были вознесены революцией к самым вершинам жизни и обнаружили дарования и способности осуществлять задачи, каких никогда перед собой и не ставили. Я поняла или, вернее, начала понимать, что такое социализм.
У нас дома также много говорили о социализме. В юности отец участвовал в кампании за всеобщее избирательное право; он рассказывал мне о демонстрациях, забастовках и «красных вторниках»[1], о Трульстра[2] и Вибауте[3], которых он знал лично. Его рассказы всегда звучали для меня, как песнь о борцах за социализм. С течением времени, видимо, изменились цели и средства борьбы; борьба отцов теперь позабыта, она словно погребена под крохами мещанского благополучия, которым облагодетельствовали часть эксплуатируемых, когда уже нельзя было игнорировать их протесты. Если бы я высказала эти мысли отцу, он, вероятно, согласился бы со мной. Впрочем, ни он, ни мать никогда не оказывали на меня какого-нибудь давления. Они предоставили мне право вступить в жизнь, во всяком случае перешагнуть порог университета— что, разумеется, не равнозначно — с молчаливым уговором; самой думать и соображать. Мне уже давно стало ясно, что человечеству предназначена иная форма существования, чем наша нынешняя, хотя многие, кажется, считают ее единственно возможной… Какая же именно форма? Какая? Этот неотвязный вопрос ворвался и в мою незначительную жизнь.