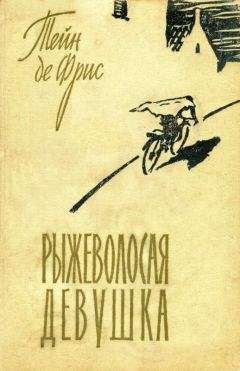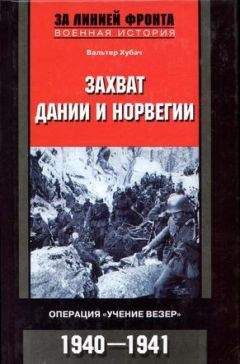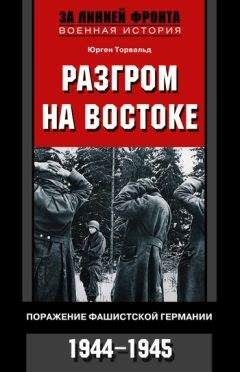«Неоценимая моя Ада!» — думала я, нажимая на педали и ощущая в душе новый запас мужества. Когда Таня вернулась домой, я рассказала ей, что у нас произошло. Я видела, как сначала она очень испугалась. Она сидела молча, с покорным видом — а я-то ожидала встретить бурный протест! Видно, она уяснила наконец опасность, которая уже дважды вплотную приближалась к ней. И я без особого труда уговорила ее переехать отсюда.
В тот же вечер она была у Ады.
Я осталась пока на чердаке сторожить наше скромное имущество. Долго ломала я голову, где бы найти для Тани жилье. Мысленно перебрала наших студентов. Многих я совсем потеряла из виду. Не знала даже, где теперь Луиза. Ада говорила мне: нужна самая обыкновенная, скромная, уединенно живущая семья. Значит, она думает точно так же, как наш фотограф. Я все размышляла и размышляла и вдруг вспомнила о родительском доме. И тотчас же отвергла эту мысль. Я не могу причинить отцу и матери беспокойство. Отец заслужил отдых. У матери — больное сердце. Главная ее забота — это чтобы я училась, вернее, доучилась, во что бы то ни стало. Нет, этот вариант совсем не годится.
Однако затем я снова вернулась к этой мысли. Ведь мои родители тоже патриоты. И тоже ненавидят нацистов. Они не могут безразлично отнестись к моему предложению или выказать неудовольствие. А что касается моей дальнейшей учебы… Недавно прошел слух, что фашисты в обязательном порядке потребуют, чтобы студенты дали немецким властям подписку о лояльности. Не значит ли это, что высшие учебные заведения опустеют или даже будут закрыты? Сама же я… разве в самом деле я все еще хочу учиться?
И снова я оставила эту мысль. И опять вернулась к ней.
…На следующее утро я была уже у родителей. Мать гладила белье. Отец ушел погулять; дождь наконец прекратился. Три четверти часа, если не целый час, я излагала матери свои доводы. Словно я вела защиту по заведомо безнадежному делу. Даже не давала ей возможности что-нибудь сказать. Она лишь изредка взглядывала на меня своими умными серыми глазами. Она не привыкла видеть меня такой словоохотливой. Окончив защитительную речь, я подумала: «До чего глупо!» Я рассказала о Тане решительно все, чего в другое время ни за что бы не рассказала своим родителям. Я молча полезла за сигаретой. И в эту минуту услышала умный, спокойный голос матери:
— Дитя мое, не стоит тратить столько слов… Должна сказать тебе, что мы иначе думали провести наши годы после выхода на пенсию, не собирались укрывать еврейских подпольщиц. Да, не так мы представляли себе теперешнюю нашу жизнь. Но над нами нависла мрачная тень, и мы должны помогать друг другу… Если это дело не терпит отлагательства, то пусть они приезжают.
Я вскочила, но была так смущена и обрадована, что даже не поцеловала маму.
— Ты говоришь «подпольщицы», мама? Во множественном числе? — спросила я, пораженная.
Мать выключила утюг, села на стул и, откинув со лба прядь волос, сказала:
— Разумеется. А как же Юдифь? Неужели вы собирались оставить ее на произвол судьбы?
Я обрадовалась, когда вернулся отец. Слышно было, как он вытирал ноги возле двери черного хода. Я убежала в свою девичью комнату, предоставив матери сообщить отцу о том, что в его доме собираются поселиться три девушки-студентки, причем две из них будут здесь скрываться.
Через полчаса я спустилась вниз и увидела, что отцу уже все известно. Он так сердечно и в то же время торжественно приветствовал меня, был так мил и нежен со мной, что я почувствовала: наш план поселиться здесь им принят. Сквозь его озабоченность проглядывало внутреннее удовлетворение. Я поняла, что отец рад моему возвращению в родительский дом, хотя меня вынудили к этому оккупация страны и террор.
Мне без труда удалось убедить Юдифь в необходимости для нее и Тани переехать в Гарлем; зато в Тане я заметила некоторое колебание, даже молчаливое недовольство, которое она, впрочем, быстро преодолела. Конечно, я очень хорошо понимала ее: ей придется на время расстаться со своим другом.
Вскоре состоялся и переезд. Я снова жила в своей детской комнатке, совсем как в те времена, когда училась в школе. Большую комнату в мансарде отвели для Тани и Юдифи; отец распорядился спешно оборудовать их убежище. Прошло немного времени, и наша новая жизнь стала нам казаться нормальной — в той же мере, как считалось нормальным и все то, что мы могли вырвать из лап фашистов, сохраняя видимость личной неприкосновенности и самостоятельности. Так же, как мне представлялось нормальным, что я снова брожу по просторным окраинным кварталам моего родного города, езжу на велосипеде, встречаю знакомые лица, снова вижу буковые и дубовые аллеи в Гарлеммерхаут[4], виллы с парками, Рыночную площадь, здание ратуши и знакомый неуклюжий памятник Лауренсу Янсзоону[5], кукольно маленькие антикварные лавочки возле бокового нефа церкви; я опять могла слушать нежный перезвон колоколов, не заглушаемый порывами морского ветра.
Я знала, однако, что все это отнюдь не нормально. Не было больше ничего нормального; ни на что нельзя было теперь взирать прежними глазами и с прежними чувствами. Таня много читала, курила все, что ей удавалось раздобыть, и лежала на кровати в непривычном и опасном для нее состоянии безделья. Юдифь утешалась тем, что по-прежнему занималась науками, хотя конечный результат отстоял теперь от нее дальше, чем когда бы то ни было. Я тоже занималась. Все происходящее носило временный, неустойчивый характер. Весна была насыщена тревожными событиями. После Сталинградской битвы не прекращались покушения на голландских нацистов и их «отряды W. А.» и на прочих изменников родины. Немецких солдат бросали в воду, темными вечерами убивали их в парках и на загородных дорогах; прокалывали шины у немецких автомобилей, перерезали телефонные провода; за это то на один, то на другой квартал города налагался штраф. Голландский офицер с чисто немецкой фамилией, возведенный в чин генерала голландского легиона эсэсовцев, был убит на пороге своего дома героем движения Сопротивления. В Амстердаме был пожар на Бирже труда. В ответ нацисты устраивали жестокие облавы на молодых рабочих и студентов, выносили смертные приговоры, разъединяли супругов в смешанных браках, причем евреев безжалостно ссылали в Польшу, в места заключения и пыток. А мы сидели у себя дома, мирные и безобидные, перед нашими окнами зеленел маленький сквер и спокойно поблескивали воды канала; мы жили словно на островке, вокруг которого свирепствовал беспощадный шторм. И все же порывы этой бури и ее отголоски проникали к нам через стены дома; нам приходилось скрывать, как мы страшимся друг за друга…
Я жаждала приняться за дело. В Амстердаме я с тяжелым сердцем передала другим свои адреса. В Гарлеме при содействии отца я разыскала лиц, которые снабжали ушедших в подполье людей деньгами и продовольственными талонами. И опять я готовила для военнопленных передачи, хотя они все уменьшались и уменьшались в объеме по мере сокращения пайков. Но это было не то дело, к которому меня влекло. Я занималась науками, чтобы иметь возможность сдать государственный экзамен. И готовилась с какой-то педантичной аккуратностью по старой привычке, из чувства долга перед отцом и матерью, чтобы оправдать их прежние ожидания, хотя про себя я считала прошлое мертвым и похороненным. Все университеты были фактически закрыты. Требование немцев, чтобы студенты в обязательном порядке дали подписку о лояльности, заперло двери учебных заведений на замок. Тем не менее профессора все еще потихоньку принимали экзамены — совсем как маленькие паучки в бурю, которые тщетно пытаются спасти нити сплетенной ими когда-то паутины. В начале марта я поехала в Амстердам, чтобы встретиться с моим добрым ворчливым профессором. Я написала ему открытку, что буду со всем «багажом» ждать его на Центральном вокзале. Он проэкзаменовал меня в зале ожидания первого класса; мы пили тепловатый жидкий суррогатный кофе с молочным порошком, кислым на вкус, помешивая его деревянной палочкой. В непосредственной близости от нас сидели немецкие офицеры; время от времени они поглядывали на нас и явно не понимали странной беседы этой странной пары: мужчина с беспорядочной седой шевелюрой то и дело снимал и надевал очки, беспрестанно заглядывал в свои записные книжечки и делал какие-то пометки; девушка в матово поблескивающем пламени каштановых волос, сдвинув брови, так что образовалась морщинка на переносице, приглушенным голосом давала длинные объяснения. Я и в самом деле полностью продемонстрировала свой «багаж»: экзамен я выдержала.
Пока профессор Аудан складывал свои бумаги в портфель, я сидела, откинувшись на спинку стула. Я устала, и меня обуревали самые противоречивые чувства, но больше всего мне хотелось хоть чуточку поплакать. Я вспомнила первый год в университете, дикий, гордый восторг, с каким я набросилась на учение, вспомнила очарование внушительных аудиторий, проникновенную серьезность наших диспутов, вспомнила товарищей тех дней — Аду, Луизу, многих других, тех, что уже почти изгладились из памяти… Совсем юной студенткой я страстно мечтала об атом великом моменте — первом шаге к получению степени магистра. Теперь шаг этот сделан. В кольце врагов. В то время как повсюду в Голландии производятся аресты и казни… Тане и Юдифи уже давно пришлось порвать все нити, связывавшие их с учебой, а я с трудом разделалась с ней лишь сегодня; и это удалось мне только потому, что я как «арийка» нахожусь на привилегированном положении… Я ощутила горечь и отвращение. Взглянув на меня, профессор спросил: