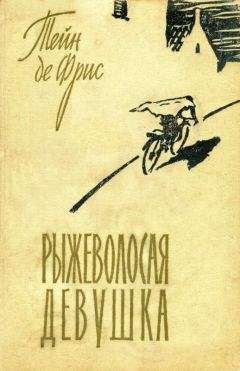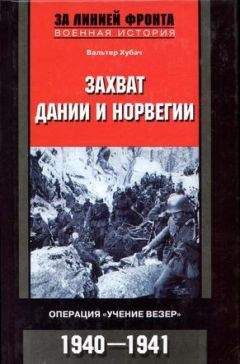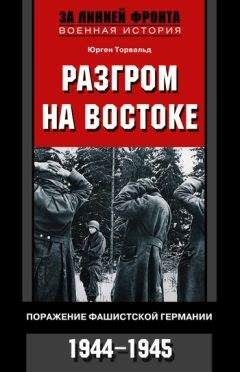Это коммунизм.
Я сознавала, что коммунизм — это проблема моего века, моего времени, моих современников. Я понимала также, правда, пока еще с некоторым внутренним сопротивлением и неудовольствием, что коммунизм должен наступить, что он заложен в самой природе вещей, независимо от того, будут ли люди, и я в том числе, сопротивляться ему, ненавидеть его или бояться. Я понимала, что речь идет о том, чтобы наиболее мыслящие из нас задали себе вопрос, хотят ли они оказать помощь и ускорить пришествие коммунизма или неуверенно, испытывая колебания и сомнения, будут способствовать затягиванию и отсрочке прихода коммунизма, и их действия неизбежно усугубят все болезненные явления и трудности, присущие переходному периоду…
Так стоял вопрос. Даже без моего содействия выбор уже был сделан — я могла лишь выразить свое одобрение или не принять его.
Но должна ли я отвечать на этот вопрос в тот момент, когда мы находимся в разгаре оборонительной борьбы против фашизма?
Я все раздумывала, пока не перестала вообще что-либо понимать. Пыталась ли я хоть немного почитать спокойно, бродила ли я бездумно по городу, передо мной снова и снова возникал словно черным по белому написанный животрепещущий вопрос: можешь ли ты идти в ногу с коммунизмом?
На нашей родине, во всех странах люди сражаются против фашизма. Для этого не обязательно быть коммунистом. Фашизм уничтожает все подряд, чтобы на месте прежнего порядка установить свой, террористический. Он возвратил средневековье — вместе с плетью и дыбой, но готовое к бою и оснащенное современной военной техникой. Он повернул историю вспять, к самой глухой поре европейской ночи. Поэтому никто не боролся против фашизма так, как люди, видящие будущее в коммунизме. Девушки-снайперы Сталинграда. Красноармейцы, отражавшие танки ручными гранатами. Партизаны, взрывавшие бутылками с горючим немецкие грузовые транспорты и железнодорожные составы. Рабочие и работницы, переправившие на Урал и в Сибирь целые заводы и работавшие с еще большим напряжением сил, чем раньше. Техники, изобретавшие оружие, против которого немцы не могли устоять. Женщины Ленинграда, делающие боеприпасы для своих мужей и сыновей, которые защищают город от фашистского окружения, в то время как над ними рвутся бомбы и голод терзает людей… Коммунисты в советской стране и за ее пределами — у французских маки, в рядах норвежского и датского движения Сопротивления. И у нас, в Голландии, где они — это знают даже дети — организовали февральскую забастовку, которая явилась первым крупным антифашистским выступлением в Западной Европе.
Дух захватывает от всех этих мыслей.
Я должна поразмыслить, разобраться в том, что происходит вокруг меня в мире и какие в нем намечаются изменения. Я должна тщательно обдумать все, чтобы наконец я смогла постичь сущность этого поворота, независимо от того, кто я и что собой представляю. Я испытывала глубокий, небывалый страх. Я понимала, что это был вполне естественный человеческий страх перед неизвестным. Нерешительность на пороге комнаты, о которой ты ничего не знаешь, пока не откроется дверь, и не ведаешь, кого и что там найдешь. И я, так называемая ученая женщина, размышляла над всем, что связано с коммунизмом, и, читая маленькие и большие брошюры из Таниного шкафчика, почувствовала, что мой ум неспособен одолеть этого, что он научился разбираться лишь в определенных вещах, но решительно отказывается понимать другие; что он привык оперировать в определенной сфере, где люди носят шоры и могут смотреть только в строго ограниченном направлении и поэтому привыкают верить, что вне этой узкой сферы не существует ничего, с чем стоило бы считаться…
Я ни разу не произнесла перед Таней слово «коммунизм». Но теперь возникло нечто, связывающее меня с ней, что прежде отсутствовало. Чувство благодарности, некое духовное родство, общее знание.
Дни одиночества понемногу утрачивали свою гнетущую мрачность. У меня как бы появился новый орган чувств, который переводил на язык моего мира и моей страны правду о событиях, доходившую до меня из далекого мира борющейся Восточной Европы. И когда мое сознание уже готово было воспринять новое, страницы конспектов и учебников показались мне еще более лишенными смысла. Буквы и строчки словно поблекли у меня перед глазами; ученость, которую я себе приписывала, оказалась мертвым и формальным атрибутом старого мира… Вероятно, я никогда не говорила во сне так много, как в те ночи, когда мне стало ясно: я должна сделать выбор между тем, что уходит, и тем, что уже близко. Если Таня даже слышала, как я разговаривала сама с собой, то, во всяком случае, ничем этого не показала. Как будто ничего не было.
Однажды тихим и угрюмым февральским вечером, когда я вышла из дому, направляясь по знакомому мне адресу, где я получала продуктовые талоны, чтобы раздать их затем кому следует, на набережной нашего маленького канала столпились люди и смотрели на противоположную сторону. Я с первого же взгляда заметила опасность: там стояла полицейская машина; в доме происходил обыск. Что они искали? Людей? Бумаги? Или подпольные печатные станки? На пороге дома стоял какой-то наглец в зеленой форме, раскинув руки в стороны и широко расставив ноги, и кричал зевакам: «Проходите!» Несколько мгновений я стояла, окаменев и сжавшись, точно от холода. И вдруг сердце заколотилось от страха, какого я раньше не знала. На нас надвигалась опасность. Да, опасность, которая до сих пор была где-то далеко, посетила нашу улицу. Пока она была еще в стороне, но стоило ей сделать один прыжок, и она настигнет нас, заберется на наш чердак… У меня застучали зубы. Я вдруг представила себе еврейскую улицу, какой я видела ее два года назад, во время первого погрома: оцепленная, кишащая полицейскими, которые, стуча сапогами и подбадривая себя криками, врывались в дома. Я припомнила, что несколько человек в отчаянии выбросились тогда из окон на улицу.
С той поры начались аресты и убийства, которые, можно сказать, ни на один день не прекращались. Я отчетливо представила себе, как беспощадно гнали евреев отовсюду еще исстари, в те века, которые нам известны как самые жестокие и мрачные, — из Палестины в Вавилон, с Пиренеев в Польшу. И теперь, сегодня, снова гонят евреев — из Голландии, которая триста лет назад предоставила им убежище… «Таня!» — подумала я тут же. Нет, Таню им не поймать!
За карточками я так и не пошла. И через четверть часа вернулась домой. Полицейского автомобиля на той стороне уже не было. Во всех домах двери и окна имели совершенно безмятежный вид, будто там ничего не случилось, как и в доме, где жили мы. Я помчалась наверх и, даже не сняв пальто, бросилась прямо к книжной полке. Я перебрала книги, все без исключения. Среди фашистов немало некультурных, невежественных парней, болванов, не интересующихся никакими книгами. Но существуют и другие гитлеровские молодчики, которые прекрасно представляют себе, что означают такие имена, как Горький и Ленин… Я словно видела, как полицейские в зеленой форме уже роются и на нашем чердаке. За десять минут я разобрала книги. Марксистские брошюры и пять русских романов я втиснула в чемоданчик и задвинула его под свою кровать.
До того как Таня вернулась домой — это было уже после обеда, — я успела отнести книги к Аде. Чемоданчик мой она припрятала и выслушала мой рассказ, не меняя спокойного, терпеливого выражения лица. Она раздумывала недолго.
— Таня может переехать ко мне, — предложила она. — Но не больше, чем на неделю. Я ожидаю потом… других гостей. Может быть, вы успеете за это время подыскать для нее новое жилье. В какой-нибудь самой обыкновенной, скромной, уединенно живущей семье.
«Неоценимая моя Ада!» — думала я, нажимая на педали и ощущая в душе новый запас мужества. Когда Таня вернулась домой, я рассказала ей, что у нас произошло. Я видела, как сначала она очень испугалась. Она сидела молча, с покорным видом — а я-то ожидала встретить бурный протест! Видно, она уяснила наконец опасность, которая уже дважды вплотную приближалась к ней. И я без особого труда уговорила ее переехать отсюда.
В тот же вечер она была у Ады.
Я осталась пока на чердаке сторожить наше скромное имущество. Долго ломала я голову, где бы найти для Тани жилье. Мысленно перебрала наших студентов. Многих я совсем потеряла из виду. Не знала даже, где теперь Луиза. Ада говорила мне: нужна самая обыкновенная, скромная, уединенно живущая семья. Значит, она думает точно так же, как наш фотограф. Я все размышляла и размышляла и вдруг вспомнила о родительском доме. И тотчас же отвергла эту мысль. Я не могу причинить отцу и матери беспокойство. Отец заслужил отдых. У матери — больное сердце. Главная ее забота — это чтобы я училась, вернее, доучилась, во что бы то ни стало. Нет, этот вариант совсем не годится.