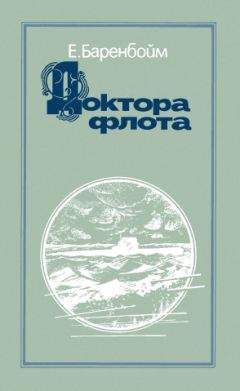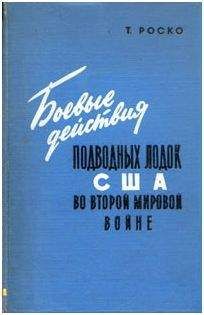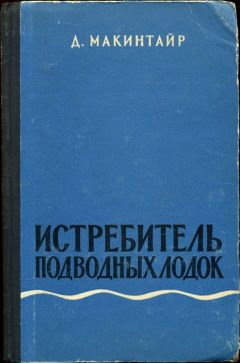— Пан Сикорский — железный человек, — сказал Миша Алику. — Пойдем на улицу, не будем ему мешать.
В день экзамена у Алексея появилась странная язвочка. Сначала он не обратил на нее внимания. Она не болела, не саднила, но и не заживала. «Пройдет, — беспечно подумал он. — На мне, слава богу, все быстро заживает». Но когда миновало несколько дней, а язвочка оставалась такой же, как и в самом начале, Алексей забеспокоился. Он достал конспекты по кожно-венерическим болезням, которые аккуратно вел, учебник Горбовицкого, даже знаменитую поэму «Сифилиаду», в которой Семен Ботвинник изложил в стихах всю симптоматику болезни и за которую профессор, не спрашивая, поставил ему на экзамене отлично.
Все описанное в книге и конспектах, казалось, удивительным образом совпадало с его симптомами — плотность в основании язвочки, безболезненность.
«Чушь, бред, — повторял он, вспоминая хрестоматийные истории о студентах-медиках, успевающих за годы учебы переболеть в уме всеми болезнями, которые они изучают. — Вульгарная язвочка и больше ничего».
И все же страшная своей невероятностью мысль, что, может быть, он заболел этой кошмарной болезнью, ни на минуту не оставляла его. Наконец, не выдержав мучений в одиночку, Алексей сказал:
— Оторвись на минутку, Бластопор.
— А что случилось?
— Кое-что случилось.
Голос у Алексея был глухой, лицо бледное, глаза лихорадочно блестели. Миша с готовностью отложил книгу и, не перебивая, выслушал приятеля. Потом внимательно осмотрел язвочку, прочел раздел учебника и, наконец, изрек:
— Не похоже. Нет регионарного аденита. Не совпадают сроки. И вообще я не верю. Забинтуй и посмотри через неделю. Не сомневаюсь, все заживет.
— Если я заболел, то жить не буду, — негромко произнес Алексей и голос его дрогнул.
— Судьба свела меня в одной комнате с форменным идиотом, — сердито заметил Миша. — Еще ничего неизвестно, а он уже поет панихиду. И, потом, это же теперь прекрасно излечивается.
— Нет, — упрямо повторил Алексей. — Грязное пятно останется на всю жизнь. Врач, перенесший сифилис! Что может быть отвратительнее? Нельзя заниматься медициной, не будучи физически и морально чистым. Женитьба исключена. Болезнь отразится на потомстве. Значит оно тоже исключено. Жизнь теряет всякий смысл.
Миша удивленно смотрел на Алексея. Его друг снова повернулся к нему какой-то новой незнакомой стороной. «Врач должен быть физически и морально чистым. Вот черт!» — восхищенно подумал он. А в том, что Алексей может выполнить свою угрозу, он ни на минуту не сомневался.
— Выбрось, балда, всю эту чепуху из головы, — повторил Миша. — Учи лучше лор, не то у Косова схватишь пару.
На четвертый день язвочка исчезла.
Алексей ворвался в комнату, повалил Мишу на кровать. Миша с трудом отбивался от сильного Алексея.
— Все о'кей? — спросил он, едва Алексей отпустил его.
— Все!
Как легко, оказывается, сделать человека счастливым! Еще недавно он считал, что жизнь кончена, а прозябать не стоит. Все, что волновало раньше, теперь отодвинулось на второй план, как бы уменьшилось в размерах. Даже история с судом и Линой стала далекой, наполовину забытой. Но все это вздор. Он молод, здоров и все у него впереди.
— Послушай, Мишка, — сказал Алексей, все еще находясь в радостно-возбужденном состоянии после недавних переживаний. — По такому поводу не грех выпить по стакану вина. Я угощаю.
— А где ты его достанешь?
— Сходим к соседу, спросим, где он покупает. Я слышал, как недавно ушла его жена и оставила ключ в замке. Она подозревает, что у него есть запасные ключи. А при такой позиции он не сможет ими воспользоваться.
Когда жена бывала дома, муж работал. Из-за двери доносилось ритмичное, как удары дятла, постукивание молотка и пение. Песня всегда была одна и та же:
Ты моряк красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет…
Алексей тихонько постучал в дверь. Никто не ответил. К сапожнику они опоздали. Он был уже пьян. Всякие расспросы были бессмысленны. В ответ он только мычал и тупо пялил глаза. Но то, что они увидели — потрясло их. Вдоль стен большой комнаты, в углу которой помещался рабочий столик и мягкий из полосок кожи стул, стояли узкие столы полированного черного дерева, а на них предметы морского снаряжения: длинные подзорные трубы, хронометр, компас, секстан, бинокль. Между ними возвышались искусно сделанные модели морских судов — парусной баркентины прошлого века с бегучим и стоячим такелажем, сампана, джонки. Под стеклом лежали уже пожелтевшие от времени документы: свидетельство об окончании морского корпуса, на нем стояла дата: «1916 год», диплом капитана дальнего плавания, выданный в Ленинграде в 1924 году, и множество фотографий. На большинстве из них неузнаваемо молодой сосед с красивым открытым лицом был запечатлен либо на кораблях, либо в иностранных портах. Особенно долго они смотрели на фотографию, где их сосед в белоснежном кителе с сигарой в зубах стоял возле гигантской пальмы, а внизу белела подпись: «Вальпараисо. 1929 г.»
— Был человек и погиб, — сказал Миша, глядя на храпящего на обитом черным дерматином диване соседа.
Они еще долго рассматривали книги, стоящие в высоких громоздких книжных шкафах с разноцветными стеклами, а потом, вернувшись к себе, решили уговорить соседа лечь в клинику. Если им это удастся и сосед бросит пить — он будет одним из первых спасенных ими больных.
Глава 5
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. РАССТАВАНИЕ
Уже война окончилась. Уже
Растёт репей в разбитом блиндаже,
А ржавыми патронами мальчишки
Уже играют… Кончилась война.
С. Ботвинник
Последнее время в курсантской жизни, сменяя друг друга, пошли чередой исторические дни.
Главный исторический день — день девятого мая, окончания войны, счастливый и долгожданный день Победы.
Его ждали долгие четыре года, страдая от ран в госпиталях, голодая, теряя родных и близких, временами уже не веря, что когда-нибудь он наступит. И наконец этот день пришел. И пришел весной. И не было еще никогда более долгожданной и счастливой весны и никогда не будет.
Перед этим днем была последняя ночь, когда курсанты вместе ночевали под одной крышей. Почти пять лет они спали бок о бок в тесных кубриках, когда стоило протянуть руку и ты касался спящего товарища, когда все знакомо до мельчайших подробностей — кто и как храпит, кто вскрикивает во сне, кто спит на животе, уткнувшись носом в подушку или закутывает голову простыней. Где все засыпали одновременно и одновременно просыпались от звуков заливистой дудки и истошного крика дневального: «Подъем!». И оттого, что каждый знал: он ложится в кубрике последний раз, рождалось странное ощущение утраты чего-то очень важного, ставшего привычным, необходимым.
Потом наступил день, когда всех повзводно повели на площадь Труда во флотскую мастерскую для пошива форменного офицерского обмундирования.
— Что, Петров, жаль будет снимать матросскую форму? — спросил майор Анохин у Васятки.
— Жалко, — признался Вася.
Действительно, с курсантской формой расставаться было жаль. Уж очень она была привычна и удобна. Широкие брюки с клапаном, обтягивающая фигуру шерстяная суконка, вытравленный известью до нежно-голубого цвета, как у заправских мореходов, воротничок, плоская, как пустыня Гоби, искусно перешитая бескозырка. Сколько усилий потратило начальство, чтобы курсанты носили форму такой, какой ее выдают со склада, а не растягивали брюки на клиньях, не переделывали в обтяжку суконки и не перекраивали бескозырки, не носили летом вместо тельняшек майки с прикрепленными к ним клочками полосатой ткани! Эта борьба с переменным успехом продолжалась все пять лет, как и борьба с длинными баками, усами и бородками.
На четвертом курсе, чтобы доказать, сколь смешно и уродливо выглядит форма, выдаваемая со склада, ее надел курсант, назначенный в наряд у входа в главный вестибюль. Он стоял там в огромной нелепой бескозырке, в похожей на мешок суконке, в узких, как голенище сапога, брюках и каждый, проходивший мимо, едва сдерживал при виде его улыбку. Но придраться было не к чему — все соответствовало форме.
Прошло лишь две недели и наступил новый исторический день — последний день занятий в Академии, последняя лекция. Ее читал профессор госпитальной хирургии Шестов. Она была посвящена клинике и лечению острых панкреатитов. Но никто лектора не слушал, по рядам ходил только что сочиненный экспромт:
Шестов читал до полшестого,
Но мы не слушали Шестова.
Все ближе становились государственные экзамены, а с ними и момент окончания. Все отчетливее курсанты чувствовали, как сроднились за эти годы с Академией, как жаль будет расставаться друг с другом.