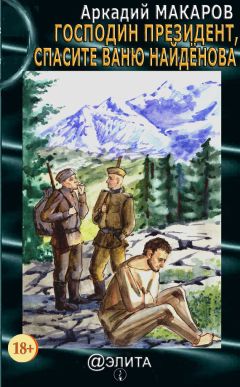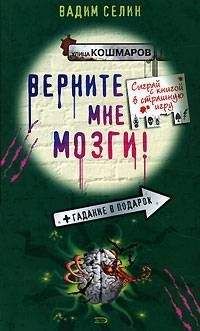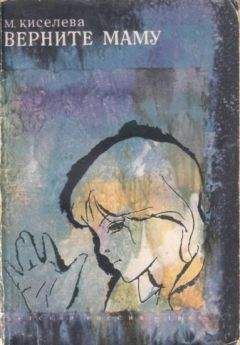Гога лежал, опрокинувшись навзничь, и внимательно, сосредоточенно смотрел в небо, туда, где из прохладной водной синевы выходили голенастые голые девы и каждая манила его к себе, призывно распахивая крутые и белые, как сливки, бёдра. Гоге было хорошо, так хорошо, что лучше и не бывает.
И только Магога, истинный пёс войны, тяжело ворочал языком, перетирая во рту настрявший песок, остервенело дышал и, вперяясь глазами в лежащий рядом валун, говорил ему что-то отрывисто и зло, как говорят последнее слово врагу. Казалось, вот-вот он вцепиться в камень зубами и будет выгрызать его внутренности, пока до корней не раскрошатся зубы, а если и зубы раскрошатся, то он будет рвать дёснами вражескую плоть и выплёвывать кровавые ошмётки в горячую чахоточную пыль и топтать эту плоть ногами.
7
Вот уже Ваня подполз, бормоча всяческие утешения, к пленнику. Вот уже ухватил зубами жёсткий проволочный узел, который никак не мог развязать. Вот уже стал перекусывать молодыми крепкими, как сахар-рафинад, зубами, скользкую медь провода, как вдруг откинулся назад, простроченный наискосок автоматной очередью. Словно толстой иглой по солдатской гимнастёрке прошлась гигантская швейная машина, продёргивая сквозь крупные отверстия красный шёлк ниток.
Магога, не поднимаясь, от живота, так и не задев ни одной пулей пленного, полоснул по Ване, потом, тупо уставясь на автомат, отбросил его в сторону.
Сразу стало тихо и пусто. И только воин Аллаха весело скалил зубы, что-то гортанно выкрикивал, дёргаясь в своих путах.
– Толян, это же Ваня! Разуй шары, Толян! – сразу же всполошился Гога.
После автоматной дроби, на сияющем небе обнажённые девы, всполошённо закричали пронзительными голосами, пряча свои потаённые прелести под чёрными перепончатыми зонтами, превратившись в стаю то ли больших летучих мышей, то ли крылатых первобытных ящеров. Потом и вовсе растворились в кипящем воздухе.
К Гоге мгновенно вернулось сознание:
– Толян, тебя же трибунал под вышку подведёт! Ты на боевом задании сослуживца преднамеренно грохнул!
Магога продолжал гневно буравить глазами лобастый валун, зло, процеживая сквозь зубы грязные ругательства. Наркота ещё держала его в безотчётном состоянии сомнамбулы, когда действует только подсознание, а мозг находится в полном параличе.
Гога знал, что делать в таких случаях. Он достал из подсумка пластиковый, наподобие портсигара, санитарный пенальчик, прихватил маленький заправленный атропином шприц, сдёрнул защитный чехольчик и быстро всадил иглу одурманенному другу прямо через рубчатую ткань гимнастёрки в мускулистое предплечье и выдавил из пластикового мешочка всё содержимое.
Атропин подействовал не сразу. Но через некоторое время Магога стал шарить возле себя руками, боязливо поглядывая на Гогу. Вероятно, до него стал доходить весь ужас содеянного.
– Толян, посмотри, это же Ваня! За что ты его так?
Магога молча поднял с земли автомат, отстегнул магазин и, убедившись, что он пуст, отбросил в сторону и вставил в освободившееся гнездо новый укладистый полный рожок с патронами.
– Пошли в кишлак! Развяжи ноги этому гаду, пусть на своих двоих, сука, топает. Мы его прямо и доставим взводному. Нам отпуск после этого полагается. А Ивана чего вспоминать? Он всё равно бы в следующем бою лоб под пулю подставил. Доложим лейтенанту о героической смерти Ивана Дробышева, и его посмертно наградят орденом, и со всеми почестями в цинковом гробу похоронят на родине. Он уже отделался, а нам с тобой ещё воевать предстоит. И не узнаешь, где нас догонит пуля или нож такой же вот падлы! – Магога ударил коротким кованым десантным сапогом скалящего зубы моджахеда, и сам распутал у него на ногах провод. – Вставай, чего разлёгся?
Пленный, кувыркнувшись несколько раз в пыли, неловко, с трудом, поднялся и, покачиваясь, встал на затёкшие ноги.
– Ладно, – сказал Гога, – назад пятками не ходят! Рядовой Ваня Дробышев погиб смертью храбрых, выполняя свой интернациональный долг. Лучше этого не скажешь! Пошли! – он сунул ствол автомата воину Аллаха в спину. – Топай, давай!
8
По каменистой обрывистой горной дороге, под невыносимым слепящим афганским солнцем, перетирая на зубах тысячелетнюю песчаную пыль востока, шли трое кровных братьев-близнецов, рождённых одной распутной женщиной, имя которой – Война. Изжёванные сосцы мерзкой бабы источали не молоко, а кровь, поэтому назвать этих детей Войны молочными братьями – значит впасть в грех святотатства.
После ярого, как утренний намаз, боя, кишлак в зелёной долине вновь продолжал жить своей жизнью.
Мыкающиеся по горным тропам остатки прежде разбитого каравана, шедшего с оружием от самой пакистанской границы, измученные жаждой и голодом свернули в мирный кишлак, где и напоролись на взвод советских интернационалистов, и были, как позже скажут в сводках, уничтожены.
И вот уже вновь голосисто призывал на полуденную молитву с невысокого минарета мулла, словно ничего не случилось под равнодушным небом. Словно только что не кричал советский мальчик, распятый на развесистой арче, обливая кровью её узловатые корни, и не лежали под дувалами с распахнутыми ртами примирённые и успокоенные общей смертью яростные враги.
Мальчишки с восточной предприимчивостью уже обшаривали мёртвых, выискивая всё, что может пригодиться в хозяйстве. И только оружие, разбросанное здесь и там, за исключением автоматных рожков с патронами, не привлекало их внимания: этого добра у них по захоронкам было, хоть отбавляй.
Между убитыми ходили молчаливые тощие коровы, подбирая узкими тонкими губами, вместе с колючками, пропитанные оружейным маслом плотные клочья пергамента от боекомплектов, и спокойно пережёвывали за неимением другого корма.
Старики, выползая на солнечный свет, мудро щурились, пропуская меж костистых пальцев седые узкие бороды, и молили Аллаха о милосердии.
– Топай, давай! – то и дело совал в бок пленённому короткий ствол автомата Гога, торопя передать пойманного «духа» своему командиру, тому лейтенанту, который уже никогда не будет не то чтобы генералом, но и старшим лейтенантом точно не станет.
Магога шёл рядом, прочуханный и трезвый, с ненавистью поглядывая в спину афганца, из-за которого так глупо погиб Ваня, солдат-первогодок, которому до смерти ещё жить бы да жить, строгая конопатых губастых, как и он, детей, на радость жене и заботу своей отчизне.
Но в разбитый кувшин воды не нальёшь. Что есть, – то есть, что было, – то было. И он мог бы так же оказаться под скорой рукой обкурившегося Гоги, не обнаружь тот в белёсых от жары небесах соблазнительных голых красоток, выставляющих напоказ своё откровенное женское естество, имеющее невозможную притягательную силу, да такую, что лица не отвернуть.
Ранее крикливые и вёрткие афганские мальчишки, сноровисто обиравшие погибших бойцов – как своих, так и советских – догадливо рассыпались по глинобитным норам, как только увидели в идущих солдатах затаённую угрозу и смерть.
Сразу стало так тихо, что было слышно, как сухо шуршит бумагой одинокая тощая корова, пасущаяся на каменистом пустыре под развесистой арчой, где в страшном оскале безгубого рта застыл последний крик лейтенанта, зовущего на помощь далёкую русскую мать.
9
Возле этого странного дерева, на котором вместо листьев топорщились пахучие густые и мягкие, как у можжевельника или сибирской лиственницы, зелёные щётки иголок, высокомерно задрав орудийный ствол, стоял с развороченной башней дочерна выгоревший советский танк без гусеничных траков.
Из высоколегированной стали этих траков предприимчивые восточные умельцы делали великолепные пуштунские ножи специальной закалки, которыми можно запросто рубить гвозди.
Судя по всему, танк выгорел от прямого попадания реактивного гранатомётного снаряда ещё в давнее время, – корпус покрылся густым слоем мелкого песка, из-под которого, несмотря на копоть, проглядывали ржавые проплешины.
Как попал сюда танк, никто из жителей не знал. Только выглянув из своих глинобитных нор наружу после оглушительного взрыва, они увидели высокое коптящее пламя и разбегающихся в разные стороны людей в чёрной одежде.
После этих людей они больше не встречали.
Теперь возле танка под скопищем больших зелёных мух лежали несколько моджахедов с развороченными внутренностями. Прицельная работа уже советского гранатомётчика из погибшего здесь взвода.
Магога, посмотрев на трупы, пустил несколько очередей в сторону кишлака, то ли для острастки, то ли для того, чтобы объявить оставшимся в живых однополчанам о своём присутствии.
Но после дробного частокола выстрелов стало ещё тише, только тщедушная скотина, больше похожая на большую поджарую и рыжую собаку, видимо, привыкшая к подобным звукам, коротко мыкнула, продолжая перебирать губами шуршащие бумажные клочья.