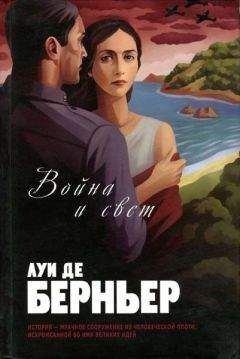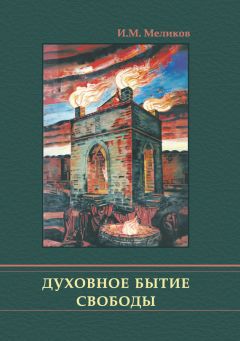Искандер так и не понял, почему это сделал. Да, он был близорук и потому не узнал сына, но ведь прекрасно видел, что беглец сдается и поднял руки. Наверное, взвинчен был, готов впервые за долгое время после военной службы пальнуть в живого человека, ему выпал шанс прославиться, завалить Красного Волка и всерьез применить великолепное оружие, специально для него изготовленное Абдулом Хрисостомосом из Смирны.
Искандер вскинул ружье, прицелился в слегка размытую фигуру, стоявшую в каких-то двадцати шагах, и дернул курок. Но едва плечо шибануло отдачей, едва грохнул выстрел, едва дуло расцвело облачком порохового дыма, Искандер понял, что обесчестил себя и совершил непоправимую ошибку.
Вот так Искандер присоединился к сонму тех, кто содеял беспричинное зло, за которое никогда не сможет себя простить.
Вот почему у Каратавука полностью обездвижела одна рука и закончилась судьба гончара.
Но затем пришло время Мустафе Кемалю упразднить арабский алфавит, Каратавук быстро выучил латинские буквы и, несмотря на своеобразное понимание орфографии, сделался городским письмописцем. Когда стало ясно, что никто не вернется, он перевез свою разросшуюся семью в дом Леонида-учителя, где писал за тем же столом при свете того же вонючего фитиля той же масляной лампы, пользуясь бумагой из Леонидовых запасов, и держал певуна зяблика в той же клетке у входной двери. Порой ему казалось, что и сам он превращается в такую же раздраженную и сварливую личность.
Каратавук умеренно благоденствовал, хотя кое-кто наотрез отказывался от его услуг, ибо писать ему приходилось левой рукой. В старости его постигла неизбежная слепота, но к тому времени нужда в его трудах почти отпала, и он по праву стал легендой. Герой великой победы под Чанаккале, мужчина, получивший увечье в самых романтичных и благородных обстоятельствах, друг Красного Волка, ученый, прочитавший уйму книг и помогший многим неграмотным в их затруднениях, он мог с наслаждением коротать темень своих закатных дней на площади. Опираясь левой рукой на палку, Каратавук в ровно надвинутой суконной фуражке прямо сидел на каменной скамье под платаном, отвечал на уважительные и любезные приветствия прохожих и рассказывал истории о старых деньках ребятишкам, которые жались к его ногам или кружком усаживались в пыли.
Новый имам был из тех дуболомов, кого нашпиговали стереотипами в духовных училищах Коньи. Вскоре после ухода христиан его посетило праведное вдохновение, и он воспламенил немногих сторонников на свершение священных дел.
Во-первых, они взломали запертые двери покинутых домов, сочтя излишним спросить ключи у соседей, ибо Аллах вознаграждает чрезмерное усердие. Отыскав в домах запасы вина, они вытащили кувшины на улицы, где и опорожнили. Оскверненные вином сосуды разбили вдребезги, а затем выдрали и сожгли виноградники, даже те, чьи плоды предназначались исключительно на изюм.
Во-вторых, они сходили в храм Николая Угодника в нижней оконечности города — церквушку, где в стропилах проживал филин, — и в белую часовенку на вершине холма у древних гробниц. В обеих церквях они прилежно выскребли глаза всем фигурам, изображенным на фресках, и разломали оставшуюся церковную утварь.
В-третьих, из склепа позади церковки с филином они вынесли и сбросили с утеса оставшиеся кости христиан.
В-четвертых, они уничтожили все символические изображения на древних ликийских гробницах.
В-пятых, длиннющими шестами они сбили в маленькое стадо свиней, поневоле брошенных прежними хозяевами. Этих свиней они загнали на вершину утеса с часовенкой и на глазах Ибрагима, сидевшего там со своими козами и по-прежнему полного ужаса от случившегося с Филотеей, столкнули визжавших и верещавших животных с того же обрыва, откуда сбросили христианские кости.
Из всех этих деяний лишь последнее получило нескрываемое одобрение жителей в целом, поскольку в обычном мусульманине необъяснимо глубоко укоренен запрет на свинину. Однако многие никогда не забудут аппетитный аромат жареной свинины, что прежде плавал над городом, будя желание и отвращение разом. Остальные священные акты, особенно уничтожение вина, были встречены тревогой и ужасом в разной степени, однако людей устрашал безумный огонек моральной уверенности в глазах тех, кто действовал по предписаниям Аллаха, изложенным в святых книгах, которые никто не мог прочесть. С этих событий в городе потянулись беспредельно нудные годы почтенности, соблюдения правил и приличий, отчего жизнь всем казалась вдвое длиннее, и даже критские изгнанники разучились петь суты[124] и танцевать пентозали. И только множество сторонников Алии, впервые за всю историю ощутивших себя меньшинством, поскольку других меньшинств не осталось, упорно следовали старым обычаям и избежали мертвящей тягомотины безрадостной жизни.
В Греции уничтожили почти все мечети и осквернили мусульманские кладбища. Нет сомнения, что эти деяния совершались с исступленным праведным рвением, весьма идентичным тому, что пережили святоши-вандалы в Эскибахче.
Примерно через год после ухода христиан и поселения на их место критских мусульман мне как-то понадобился ножик, чтобы отрезать кусок веревки, но я нигде не мог его найти. Потом вспомнил, что в армии носил нож в ранце, и подумал — вдруг там завалялся?
Отыскал ранец, пошарил в нем, но ничего не нащупал и тогда перевернул — может, выпадет? Однако выпал не нож, а кожаный кошелек, старый и ссохшийся.
Я его поднял, заглянул внутрь и увидел горсточку земли, которую друг Мехметчик дал мне с собой на войну, когда нам было лет по пятнадцать. Я вспомнил, как он говорил, что, когда вернусь, надо положить землю на то же место, откуда взяли, и что у нее особый, неповторимый запах.
Я поднес кошелек к носу и понюхал, но пахло только кожей. Потом я пошел к дому ходжи Абдулхамида, где по-прежнему жила его вдова Айсе, и нашел место у стены, откуда мы взяли землю. На секунду я замешкался, потому что пришла мысль — вдруг опять придется идти на войну? Но затем опростал кошелек, чтя наказ Мехметчика. Посмотрел на кучку и растер ногой, ровняя с землей. Встал на колени и понюхал (если б кто меня увидел, определенно подумал бы, что я молюсь), и теперь пахло нормальной землей.
Пришли грустные мысли о Мехметчике: ему-то уж точно не удалось взять отсюда земли. Знать бы, где он, послал бы ему горсть.
Как-то я разговорился с отцом семейства, что заняло дом Мехметчика, он один из немногих критян изъяснялся на турецком. Я поведал ему историю с землей, он просиял, сходил в дом и вернулся с кошельком. Развязал тесемку, дал мне заглянуть и сказал:
— Критская земля.
— Рано или поздно она будет пахнуть кожей, — заметил я.
Он лишь пожал плечами:
— Все меняется.
Чуть позже критянин рассказал, что высыпал землю в горшок, где рос базилик из семян, привезенных с родины, чтобы получилось настоящее критское растение. Оно выросло очень крепким, он взял от него семена, а потом брал семена от новых посадок и раздавал людям, так что теперь у всех нас на подоконниках растет критский базилик, который приправляет нашу еду и отпугивает мух.
Ножик я так и не нашел.
Однажды в начале лета Рустэм-бей курил во дворике, когда из дома с криком «Хозяин, хозяин! Памук совсем плохо!» выбежал слуга.
И правда, кошка лежала на боку, лапы подергивались, в глазах безумный ужас, дыхание хриплое и прерывистое.
— Ох, бедная Памук, — сказал Рустэм-бей, присев на колени. Он погладил кошку по голове; под пальцами — бархатистые уши и черепок под кожей. — Совсем старенькая. Шерстка да кости.
— С характером была, — вздохнул слуга. — Что делать-то, хозяин?
— Наверное, лучше убить, чтоб не мучилась в конце.
Слуга опешил. Он любил кошку и испугался, что умерщвлять ее прикажут ему.
— Только не я, хозяин, — взмолился слуга. — Пусть кто-нибудь другой.
— Я сам, другому не позволю, — сказал Рустэм-бей.
Слуга перевел дух.
— А как это сделать?
— Можно утопить, свернуть шею, отрубить голову, задушить или пристрелить. — Мягкий тон Рустэм-бея опровергал откровенную жестокость слов.
— Жалко пачкать кровью такую красивую белую шерсть.
— Я вынесу ее на улицу. Дай какое-нибудь толстое покрывало, — приказал Рустэм-бей.
Во дворе он плотно укутал кошку и, взяв на руки, сел в кресло. От кошачьей макушки сладко пахло пылью.
Горестно раскачиваясь с закрытыми глазами, Рустэм-бей прижал старую кошку к груди. Правая рука надавила чуть сильнее. Рустэм надеялся, что вконец ослабевшее животное не понимает, что происходит, и шептал:
— Бисмиллах аллах акбар, бисмиллах аллах акбар, бисмиллах аллах акбар…