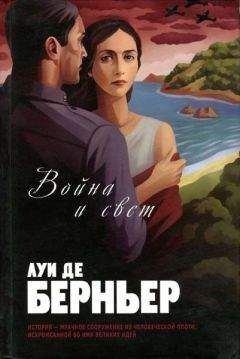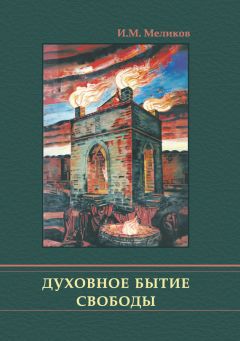Ну вот, в городе шум-гам-суета, а Филотея бросилась искать Ибрагима, который пас на холме городских коз. Он проводил там все дни со своим огромным псом Кёпеком и наигрывал себе на кавале, как и нынче, ведь у козопаса уйма свободного времени и чего ему еще делать. Звуки каваля плывут над городом, особенно когда ветер с моря, но теперь мелодия бестолковая, потому что Ибрагим спятил.
Как вы знаете, у нас внизу города бежит речка, что сворачивает у площади, огибает холм и впадает в море. Этот холм очень высокий, там живет Пес, там саркофаг святого и древние гробницы. Там же Ибрагим с собакой пасли коз, что щипали кустарник. Холм уходит все выше и выше, поднимаясь к неизвестно откуда взявшейся часовенке, где службы проводились всего пару раз в году, а за ней начинается спуск, но его пресекает очень крутой обрыв к морю. В темноте здесь лучше не ходить — край под ногой поедет, и запросто сверзишься, да еще полно слабоумных призраков тех, кто сам с утеса бросился и проклят Господом. Из-за этих духов Ибрагим с Кёпеком всегда пригоняли коз домой засветло. В других-то местах козопасу можно и ночевать на холме, там лишь волки потревожат.
Филотея измучилась, пока разыскала Ибрагима, и ревела в три ручья. Пастух был на самой верхотуре, откуда смотрел, как Герасим с Дросулой и сынишкой Мандрасом явно готовятся выйти в море на рыбацкой лодчонке. Это его сильно удивило, он ведь не знал, что жандармы пришли за христианами. Ибрагим кричал друзьям, махал руками, но утес уж больно высокий, да еще ветер дул, и они его не слыхали. А парень не мог взять в толк, с чего это Герасим собрался рыбачить с женой и дитенком, так не принято и сулит неудачу.
Ну вот, значит, изнуренная и вся заплаканная Филотея отыскала Ибрагима. Она так спешила, что несколько раз грохнулась, сильно обсеклась о камни и колючки, ладошки и мордаха в крови, одежка изодрана. Филотея пыталась втолковать жениху, чего происходит, а тот все не уразумеет, почему это жандармы без объяснений забирают народ, ведь такого не случалось с тех пор, как восемь годов назад выгнали армян. Да и как тут разберешься, ежели все так неожиданно и никто ничего не понимает. Я сам так и не понял, зачем это было нужно.
Филотея взбеленилась без удержу, а все потому, что разрывалась: уходить с родными или остаться с суженым? Никак не могла выбрать. Это как с ходжой Насреддином, когда ему дали две одинаковые миски с киз мемеси кадаиф[125], а он чуть не помер с голоду, потому что не мог решить, с какой начать, а его осел едва не подох, не в силах выбрать между двумя одинаковыми охапками сена. Пример, конечно, легкомысленный. Наверное, точнее сравнить с человеком, которому велят выбрать для жертвы одного из равно любимых близнецов. Филотея была в отчаянном положении, и сердце ее разрывалось напополам. Ибрагим валялся у нее в ногах, умоляя остаться, и она вроде отворачивалась, а потом бросалась к нему. Так продолжалось без конца, обоих охватило этакое безумие, и они сами не понимали, чего говорят и делают. Ибрагим вопил и размахивал руками, а Филотея металась туда-сюда и вскрикивала, отчего Ибрагиму пронзало живот, точно саблей. Вдобавок ошалевший от суматохи Кёпек стал лаять и на них бросаться.
Схватившись за голову, Ибрагим стоял на коленях и тут увидел, что Филотея слишком близко подошла к краю обрыва. Она рыдала, махала руками и сама ничего не замечала. Обуянный страхом, парень вскочил, чтобы за одежду оттащить ее от пропасти, протянул руку, но споткнулся и налетел на Филотею, а та и опрокинулась. В ее распахнутых прекрасных глазах застыли такие ужас и непонимание, что память о них навсегда лишила Ибрагима ночного покоя.
Свесившись с утеса, он видел, как Филотея летит в пропасть. Казалось, все происходит очень медленно, ее тело ударялось о каменные выступы и подскакивало, как деревяшка. Прошла вечность, прежде чем она в последний раз ударилась о камень и упала на берег неподалеку от Дросулы с Герасимом, грузивших лодочку. Оба бросились к телу, и Дросула, как увидала свою с детства любимую подругу, так и повалилась на нее, а потом подхватила на руки и баюкала, и все раскачивалась, и гладила по голове. Герасим коснулся ее плеча, что-то сказал, поднял тело и понес к лодке.
Дросула взглянула на утес и увидела Ибрагима. Он ничего не мог поделать. Дороги к берегу не было, а его сковало ужасом. В тот момент он еще ничего не ощущал, чувства были слишком велики и в него не вмещались, иначе он бы разлетелся вдребезги, как глиняный горшок, и умер. Далеко внизу Дросула казалась крохотной. Она вскинула руки и выкрикнула проклятие. Хоть и далеко, Ибрагим слышал каждое слово, и все они врезались в память. Проклятие слишком ужасное, чтобы повторить его вслух, Ибрагим так и не сказал, что в нем было. Оно длилось очень долго, от него по спине катился ледяной пот. Оно вынуло душу из тела и выгнуло ее, как проволоку, а потом взяло тело и вытряхнуло из него добро с пламенем. Но несравнимо ужаснее проклятия Дросулы было проклятие, каким Ибрагим проклял себя в тот миг и не уставал проклинать все эти годы.
Не забыть, как в день ухода христиан он прибежал ко мне. Пробираясь по камням меж гробниц, он много раз падал и изрезался в кровь. Он бежал, ослепший от слез, и его уже окутывало безумие. Первые слова, что он смог мучительно выговорить странным голосом, были: «Я убил пташку».
Вот почему Ибрагим сошел с ума, вот почему погибла красавица Филотея. Ибрагим, говорю, винит в том себя, и сейчас он так безумен, что его не переубедить, но, на мой взгляд, говорил и повторю, все свершилось из-за большого мира.
5. Лудильщик Мехмет и новое медное блюдо
После всего случившегося и высылки христиан те, кто остался в здешних краях, вскоре взяли в привычку называть бывших соседей греками. Ну да, ведь их выслали в Грецию, и христиане стали греками, хотели они того или нет, хотя новые греческие соотечественники часто обзывали их турками. Опороченное слово «оттоман» выпадет из употребления до поры неизбежной переоценки событий тех лет, когда мир осознает, что Османская империя была государством космополитическим и толерантным.
Население Анатолии пребывало в скорби. Десять лет войны на Балканах, а потом войны с франками и войны за независимость с греками оставили десятки тысяч вдов и сирот, десятки тысяч родителей без наследников, десятки тысяч сестер без братьев. Обездоленный и невыносимо измученный народ выберется из ямы бедствий лишь благодаря тому, что ему чудесным образом повезло оказаться под чудным, но выдающимся руководством Мустафы Кемаля, который недавно повелел, чтобы отныне все носили фамилию, а себе взял «Ататюрк».
Народ лишился и тех, кто не погиб. Эскибахче умирал стоя, потому что греческих турок было слишком мало, чтобы заселить все пустующие дома турецких греков, и прибыли они практически нищими. Одни брошенные дома разграбили — особенно те, где хозяева, по слухам, устроили тайники с сокровищами, — а другие, владельцы которых оставили ключи и доверили пригляд соседям-мусульманам, просто медленно гнили, ожидая возвращения владельцев: балки просели, крыши завалились, дверные косяки и оконные рамы вывалились, пруды заросли. Кованые ворота двух христианских склепов заржавели, а немногие оставшиеся ребра и зубы стали отвратительными игрушками детворы.
Насосная станция на въезде в город, выстроенная в 1919 году как филантропический дар от говорливого купца из Смирны Георгио П. Теодору, сломалась и бездействовала, поскольку не осталось никого, кто сумел бы ее починить. Выезжавших из сосняка путешественников более не встречало радостное журчание прохладной воды, их жажда оставалась неутоленной, руки и лица неосвеженными.
Да, не было почти никого, кто бы мог управиться с делами. У прежних обитателей существовало столь четкое разделение труда, что с уходом христиан мусульмане временно оказались беспомощными. Теперь в городе не имелось ни аптекаря, ни врача, ни банкира, ни кузнеца, ни сапожника, ни шорника, ни скобовщика, ни красильщика, ни ювелира, ни каменотеса, ни кровельщика, ни купца, ни пряничника. Нация, занимавшаяся исключительно управлением, пахотой и солдатчиной, внезапно оказалась стреноженной и растерялась, явно без всяких средств к существованию.
В городе осталось лишь два ремесленника: гончар Искандер, сильно пришибленный ужасным ранением, которое нанес любимому сыну, и лудильщик Мехмет.
Мехмет происходил из армян, прибывших во времена сельджуков[126] и принявших ислам, многие поколения его семьи бесперебойно обеспечивали город медниками. Хотя Мехмет не знал, что его искусство зародилось три тысячи лет назад в Индии, однако хорошо разбирался в эзотерических смыслах коз, грифонов, крылатых львов, рыб и гексаграмм, которыми украшал блюда, кастрюли и роговые пороховницы с откидывающейся крышкой. Вообще он был одним из немногих в семье, кто еще делал подобные изображения и знал их семиотику, а большинство мастеров совершенно это забросили и украшали свои работы лишь замысловатыми геометрическими узорами.