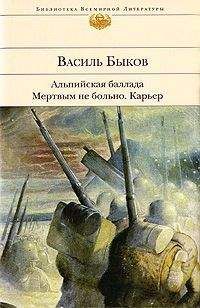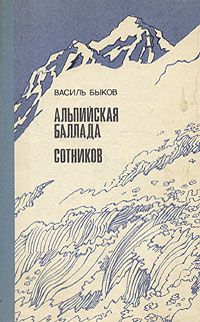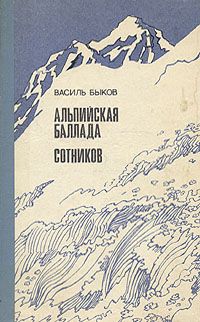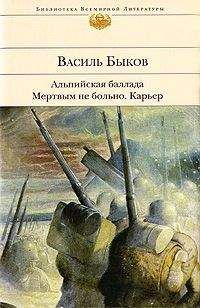деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная
где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать
дверь в избу.
Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий
порог. Изба встретила их затхлою смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи -
та была свеженатоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверно,
впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку
возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за
полосатую рогожку, которой был занавешен проход в другую половину избы, - там раза два тихонько
проскрипела кровать. Сотников напряг слух - сейчас должно было решиться самое для них главное.
- Вы одни тут? - твердым голосом спросил Рыбак, стоя в проходе.
- Ну.
- А отец где?
- Так нету.
- А мать?
- Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна.
- Ого, как ты разбираешься! А там что - едоки спят? Ладно, пусть спят, - тише сказал Рыбак. - Ты чем
покормить нас найдешь?
- А бульбочку мамка утром варила, - отозвался словоохотливый детский голос.
Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со
всклокоченными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными
глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла
к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников
осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу.
Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской; девочка переставила
миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты
и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям - вынула из посудника
нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом
186
отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших
бородами, наверно, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей.
- Ну, давай подрубаем, - подался к столу Рыбак.
Сотников еще не отогрелся, намерзшееся его тело содрогалось в ознобе, но от картошки на столе
струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему
перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка
подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней
уважительностью стояла в проходе и, колупая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих
темных глаз.
- А хлеба что, нет? - спросил Рыбак.
- Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.
Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок.
Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала - отнесла за
перегородку и снова вернулась к печи.
- И давно мать молотит? - спросил Рыбак.
- От позавчера. Она еще неделю молотить будет.
- Понятно. Ты старшая?
- Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне уже девять.
- Много. А немцев у вас нету?
- Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На
машине увезли.
Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять
тот бил его так, что казалось - вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до
картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось,
болезненно-сладостная истома убаюкивала, он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись
смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.
- А мать твою как звать? - хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.
- Дёмчиха.
- Ага. Значит, ваш папка Демьян?
- Ну. А еще Авгинья мамку зовут.
Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно потянулся за новой картофелиной, под столом
загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым
любопытством голос девочки:
- Дядя, а вы партизаны?
- А тебе зачем знать? Пацанка еще.
- А вот и знаю, что партизаны.
- Знаешь, так помолчи.
- А того дядю, наверно, ранили, да?
- Ранили или нет, о том ни гугу. Поняла?
Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.
- Я за мамкой сбегаю, хорошо?
- Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.
- Холера на них! Люди мы или скотина?
- Были люди...
Но это уже не настоящее - это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще успевает отметить этот
почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который
едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и
голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший
лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид.
От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит: сладковатый запах
гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес - реденький соснячок при дороге. Под
ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и
пешие немцы сопровождают колонну.
Говорят, гонят расстреливать.
Это похоже на правду - тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге:
политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрение у немцев. Сотникова
поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстреляют. Они
уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче прикрикивать
их конвоиры - начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще
солдаты, наверно, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются
накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что
были на краю соснячка, затем прозвучала команда всем сесть - как обычно делалось, когда надо было
остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и под стволами автоматов стали чего-то
ждать.
187
Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно - обессилел без
воды и пищи. И он молча, в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без
особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть
одного, а прикончу. Все равно...» - «Погоди ты. Посмотрим, что дальше». - «Разве неясно что». Сотников
осторожно повел в сторону взглядом - тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-
под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость,
что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот, к кому он обращался, - пожилой человек в
комсоставской, без петлиц гимнастерке - опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе,
прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.
Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то
команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу
же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоиру. Конвоир этот был сильный, приземистый