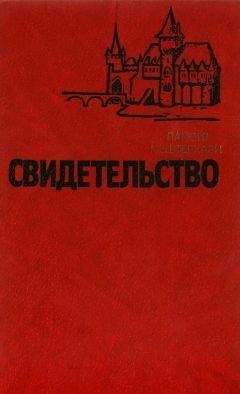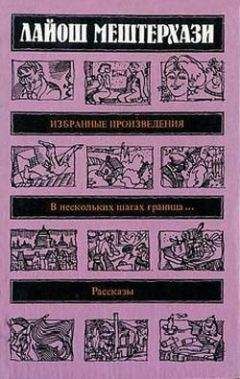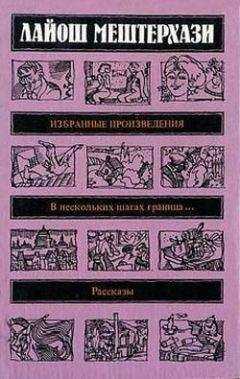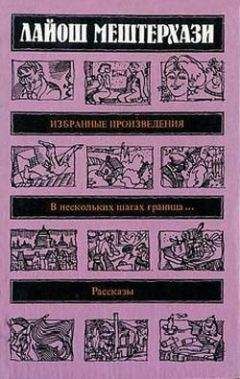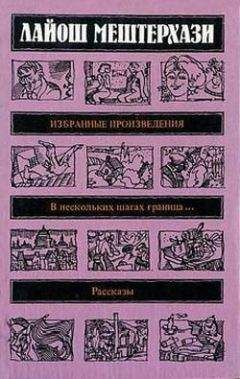Ласло поднялся и сразу ринулся в полемику. Нет, он не терял головы, он держал себя в руках, не отвечал оскорблениями и совершенно спокойно объяснял свою позицию, доказывал свою правоту. Кончив говорить, обвел взглядом всех, ожидая поддержки. В этот день на заседание Национального комитета из коммунистов пришел он один. Напротив него, на потертом диване, сидели Пал Хайду, Магда, адвокат Гондош и рыжий стекольщик. Хайду слушал внимательно, с явным интересом. Длинноусый учитель от крестьянской партии громко скрипнул стулом и, смутившись, покраснел и крякнул. Альбин Шольц, откинув голову на спинку кресла, как обычно, давал отдохнуть глазам. Председатель рисовал на полях протокола кружки, а потом вокруг них — лепестки ромашек. Стояло молчание — томительное, долгое молчание. Сквозь открытое окно из Крепости долетала тягучая, на два голоса, русская военная песня. Промокнув пот платком и полюбовавшись мокрым отпечатком глазниц, лба, уголков рта на нем, Озди аккуратно сложил платок вчетверо, затем еще вдвое и убрал во внутренний карман расстегнутой куртки.
— Прошу высказываться, — со вздохом вымолвил он. — Нам нужно принять решение. Может быть, социал-демократическая партия?..
И тут заговорил Хайду. Он начал с изъявлений радости по поводу столь оживленного и столь интересного заседания комитета, на котором, как он рад убедиться, «обсуждаются чрезвычайно серьезные вопросы — важные как с теоретической, так и с практической стороны». Страстный тон ораторов показывает, отметил далее Хайду, насколько серьезно относятся «уважаемые коллеги» к своим обязанностям…
— Да, уважаемые коллеги, — подытожил Хайду, — именно этого и ждет от нас население района! Что же касается меня, то как назначенный нашим ЦК руководитель районной организации социал-демократической партии я в соответствии с линией своей партии стою на позициях теснейшего единства действий с братской марксистской партией. Господин секретарь комитета Саларди, — а для меня он товарищ Саларди, — ясно сказал: людей нужно поставить на ноги, научить их помогать друг другу! Я полагаю, господин председатель в принципе с этим тоже согласен…
Озди буркнул что-то с озабоченным видом, вероятно, желая пояснить свою позицию, но, как дисциплинированный диспутант, не захотел мешать оратору и лишь молча кивнул.
— Я не оратор, — продолжал Хайду, — я обыкновенный простой практик, человек физического труда. По-моему, ведь как… нужно ухватить цепь за нужное звено, а уже тогда — давай делай! — Он поглядел себе на ногти, словно на них записал ключевые слова своего выступления. — Да, о домовладельцах… Я скажу откровенно — мы не партия домовладельцев. Вышло постановление правительства, писали его люди более умные, более осмотрительные, чем мы с вами… Постановление нужно выполнить — это ясно. Но я должен заметить товарищу Саларди, что, если мы перегнем палку, пойдем дальше, чем этого требует данное постановление, мы можем подорвать авторитет правительства! А в остальном — это постановление, господа, оно уже существует, и тут мы не знаем шуток и будем его выполнять! — Хайду твердо посмотрел на Озди. И, удивительное дело, тот согласно кивнул ему.
— Что же до остальных вопросов, — добавил Хайду, — то я предлагаю следующее: перепись всех уцелевших квартир — это затея дельная… Создадим сегодня же комиссию, которая разберется, как нам разместить людей, не имеющих над головой крова. В школах, в учреждениях, в пустующих квартирах, если их можно отремонтировать, и… — он снова с непреклонной решимостью посмотрел на Озди, — и путем коммунального заселения тоже! Да-да, если понадобится, то и таким путем! Наконец, эта, как ее… словом, дело о черепице. Оно ведь как иной раз бывает? Начнет человек выступать и такого наговорит, что и сам не рад… Я полагаю, что и товарищ Саларди не так думает на самом деле, как получилось из его слов. Мы должны добиться того, чтобы ни одна штука черепицы не валялась без пользы ни на улице, ни на крышах разрушенных домов. Предлагаю и для этой цели создать комиссию. Подсчитаем ресурсы… Назначим приемлемую цену… Давай черепицу, получай деньги, — все будет в порядке, и никакой анархии…
На Хайду устремились все взгляды — в них были одобрение и надежда. Даже председатель, оставив недорисованной последнюю ромашку, принялся старательно записывать предложения оратора: понял, что они-то и будут решением сегодняшнего заседания. Он угадал.
Члены Национального комитета разошлись примиренные, только Ласло и Озди не подали друг другу на прощание руку Пал Хайду, очень веселый и приветливый, подхватил Саларди под руку и проводил до самого комитета компартии. Ласло избрали в обе предложенные Хайду комиссии, и тем не менее он отчетливо сознавал, что принятые предложения Хайду — это его, Ласло, поражение. Он был очень расстроен и зол. Зол на Озди, зол и на Хайду, по-дружески гудевшего у него над ухом: «Больше нужно брать в расчет людей, Лаци! Кто-кто, а я то уж действительно презираю их, знаю, что это за человечишки! Больше десятка лет живу среди них, и все же… В конце концов, мы с тобой — политики! Я тебе откровенно скажу… Сечи, мне кажется, недостаточно гибкий человек, но ты-то должен это понимать!..»
Ласло лишь краем уха слушал Хайду, занятый своими собственными мыслями. Что он мог возразить Хайду? Что и он давно живет здесь и знает этих людей, но не презирает их? Такой ответ показался ему нескладным, беззастенчиво сентиментальным. А для «политика» так просто глупым.
Вот эта застенчивость, что греха таить, и сдерживала Ласло на заседании комитета. Умная, даже в гневе хладнокровная аргументация Озди подействовала тогда и на него. Но теперь Ласло корил себя: почему он не дал волю своему возмущению, которое ощущал так часто, но сейчас, когда Озди заговорил «об огромных силах, которые освободятся с окончанием войны», почему-то вдруг принялся душить в себе… А разве не естественно возмущаться тем, что и он сам, да и другие отсиживались всю войну, кто как мог, и даже ни единого выстрела не сделали для завоевания своей свободы! Ведь все, буквально все готовеньким получили! Да не будь этого, и по сей день ходили бы люди, клейменные «желтой звездой», а фашисты болтали бы о Великой Венгрии, о чистоте расы, хулиганы подростки прямо на улице средь бела дня убивали бы людей, город уничтожался бы до последнего дома… вокруг бесновалось бы безумие, а ум и честь, тихо причитая, уползли бы в уголок, выжидая, пока «международные силы»… Нет!
Мы люди! — надо было крикнуть в лицо Озди. Мы люди среди людей! Мы — один народ в семье других народов. Десять миллионов — это тоже частичка двух миллиардов, хоть и маленькая. Так же, как и шесть или восемь тысяч человек здесь, в нашем районе! Так докажем же это! Или мы — ненужный балласт, ветхое старье в богадельне народов или в больничной палате? Неужели только со ста миллионов начинается человеческое самосознание нации?!
Да, вот как нужно было сказать тогда в Национальном комитете… Он низверг бы в прах этого Озди при всем его чванстве. А если и потерпел бы поражение он, Ласло, то вышел бы оттуда все же не посрамленный, а с гордо поднятой головой. Теперь же остается только слушать, как Хайду «отечески заботливо» нашептывает ему: «Учиться вам всем надо, дружище. Ну, да еще успеете, научитесь! Мы тоже не родились политиками. Возьми, к примеру, меня: работяга, нищий пролетариат — «проли», как мы себя называли!.. От сапожной колодки поднялся в рабочее движение… Что же до союза наших двух партий, то в нем ваш капитал — молодой задор, а наш — сам видишь — мудрость, опытность! Ну ничего, будем помогать друг другу. Верно?»
Он проводил Ласло до самых дверей, дождался даже, пока тот скроется за первым маршем лестницы. А затем повернулся и, словно на прогулке, заложив руки за спину и улыбаясь, пошел обратно, к районному управлению. Еще прощаясь с Ласло, он издали видел, как один за другим разошлись по домам остальные члены Национального комитета. Хайду действовал методично: конец дня он решил посвятить управлению.
Минутой позже он уже сидел в кабинете председателя. Перед Нэметом стояла кружка с отломленной ручкой и вонючей, пахнущей мылом и чем-то горелым, жидкостью на дне, — как уверял председатель, — самогонкой.
— Л-л-лекарство мое, — заикаясь, объяснял он. — Спасибо ей, без гриппа весну миновал. А какие у меня нервы, сам знаешь. Тьма волнений, работа.
За день Нэмет, как видно, принял не первую и не вторую дозу «лекарства»: лицо у него опухло, глаза налились кровью, словно он давно уже не высыпался. Вообще-то на работе никто, кроме посвященных, не замечал пагубной страсти председателя: он не шумел и не глупел от выпитого. Но к окружающему миру прикасался брезгливо, как в перчатках. Может быть, именно алкоголь и служил ему этими «перчатками».
«А я тебя не тороплю, — доверительно склонялся к столу Хайду. — Мой принцип: каждый должен убедиться сам. Вот и ты: придет время — увидишь, на чьей стороне сила и кто здесь «сильный человек». Социал-демократическая партия существует в Венгрии уже полвека, вот тебе и историческая преемственность. А если и с другой стороны взглянуть — опять все в порядке: рабочая партия, марксистская партия, красная партия! Понял? Ну, а ты хотя и молод еще, но заслуги у тебя уже серьезные, большое будущее ждет тебя…»