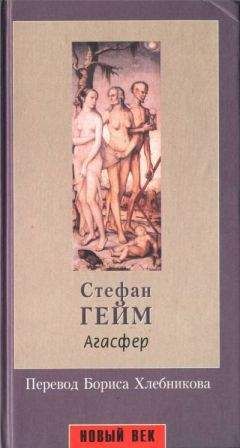— Ach, Gott! — вздохнула она. — Вы, американцы, привыкли не считаться ни с кем и ни с чем. Я шла по дороге, а мимо ехал американский грузовик. Я крикнула солдату который сидел за рулем: «Мюнхен!» Он ответил: «О'кей». Я села, мы ехали всю ночь, а наутро оказались в Креммене. И тут он мне говорит: «Ну, детка, слезай, приехали. Raüs!»
Иетс не стал расспрашивать о подробностях этого ночного путешествия. Их нетрудно было вообразить.
— А теперь, фрейлейн Зекендорф, вы хотели бы вернуться в Мюнхен?
Она, пригорюнившись, махнула рукой:
— Мне все равно, где быть. У меня в Мюнхене никого не осталось, ни родных, ни друзей. — Она почувствовала, что вступает на зыбкую почву. Глаза ее чуть-чуть скосились. — Если можно, я предпочла бы остаться в Креммене. Здесь…
Она вытащила свою вырезку и робко протянула ее Иетсу.
Иетс глянул и пригласил ее сесть.
— Вы что же, родственница профессору Зекендорфу?
— Он мой дядя.
— Вы были у него в больнице? Как его здоровье?
— Я пыталась пройти, — сказала она грустно. — Но меня не пустили. Не полагается. Теперь, знаете, везде так строго. — И она снова улыбнулась, давая понять Иетсу, что его-то она не считает таким уж беспощадно строгим.
— Я, пожалуй, мог бы вам устроить пропуск.
Она пробормотала какие-то вежливые слова. У нее не было ни малейшего желания встречаться со стариком. Ее невинная маленькая ложь не должна выйти наружу, пока она не устроит достаточно прочно свои дела.
— Напомните мне перед уходом, чтобы я дал вам письмо к доктору Гроссу, — сказал Иетс. Потом он отодвинул в сторону лежавшие перед ним бумаги и откинулся на спинку кресла. — А теперь расскажите о себе. — В конце концов, если в этом унылом городе, среди этой унылой работы залетело к нему что-то, радующее взгляд, не грех и позволить себе отдохнуть немного.
— Что ж рассказывать? После мюнхенской истории фамилию Зекендорф стало опасно носить… Я-то сама не училась в университете. Не люблю книг. Сотню страниц еще прочту, а дальше мне уже скучно. В нашей семье не все ученые.
Иетс усмехнулся.
— Но я знала, чем занимаются Ганс и Клара Зекендорф. Они меня сначала не подпускали, боялись за меня, предвидя, чем все это может кончиться. Но я упряма, особенно там, где я считаю, что дело правое. И в конце концов мне тоже дали распространять листовки.
— Вы смелая девушка, — сказал Иетс.
У нее заблестели глаза.
— Я оказалась осторожнее их. Когда меня взяли, при мне ничего предосудительного не было.
Иетс внимательно рассматривал ее. Он не мог прийти ни к какому выводу. Все вязалось одно с другим, пока она не заявила, что участвовала в распространении этой студенческой листовки.
— При каких обстоятельствах вас арестовали?
— Меня арестовали не из-за листовок, — кокетливо прихвастнула она. — И не вместе с кем-либо из замешанных в этом деле. Но просто они уже преследовали всю семью. Вы ведь знаете, что сделали с дядей?
— Знаю. А что же сделали с вами?
— Об этом мне не хочется говорить.
— Меня вы можете не стесняться, — сказал он. — Я видел концлагерь «Паула», когда туда вступили наши войска.
Марианна мысленно оценивала этого американца. Она пришла сюда просто потому, что газетная вырезка естественно навела ее на мысль о редакции газеты. Она не ожидала, что ей так скоро придется подвергнуться испытанию в затеянной ею игре; но в конце концов рано или поздно это должно было произойти; и если сейчас она успешно пройдет испытание, дело будет сделано, раз и навсегда. Если б только он не был такой рыбой. Она рассчитывала, что действие ее чар покроет кое-какие несообразности в ее рассказе. Сколько американских солдат на ее глазах с молниеносной быстротой переходили от стадии покрикивания: «Эй, фрейлейн, идите сюда!» — к стадии покорнейшего подчинения всем капризам фрейлейн! На этой мужской наивности строился весь ее расчет. Но мужчина, сидевший сейчас напротив нее, не был наивен.
— Костей мне не ломали. Даже нигде не оцарапали кожи. Сначала это была пытка светом. День и ночь яркий свет прямо в глаза, так что я думала, что ослепну или сойду с ума от головной боли. Я даже хотела ослепнуть. Но я ни в чем не призналась. Мне, слава Богу, и не в чем было признаваться. Ганса и Клару взяли раньше меня, и листовки нашли при них; так что я могла не бояться выдать кого-нибудь…
Иетсу трудно было сосредоточиться. Давно уже не попадался ему на пути такой лакомый кусочек. Но в то же время он чувствовал, что должен следить за каждым словом.
— Что ж потом? — спросил он участливо.
— Самое страшное случилось в начале марта. Они вошли ко мне в камеру ночью и заставили меня раздеться. Их было четверо. Я думала, это конец. Но они меня не тронули. Они повели меня на другой конец коридора, в другую камеру. Там стоял большой деревянный чан с водой. На поверхности воды плавали куски льда.
— Куски льда… — повторил он.
— Поверите ли, — продолжала она с надрывом в голосе, — я не могла разобрать, ледяная ли это вода или кипяток. То есть я, конечно, видела лед, но понимать уже ничего не понимала.
— Сигарету?
Он подумал, что ей будет легче, если она закурит. Вообще говоря, он не ошибся. Марианна сама увлеклась своим рассказом. Тем более что в Бухенвальде она видала женщину, с которой все это произошло в действительности, — это была немолодая, некрасивая женщина, не представлявшая для эсэсовцев никакого интереса.
Иетс поднес ей спичку.
— Ощущение было такое, будто меня режут, прокалывают насквозь. Тысячи острых ножей. Страшная, нестерпимая, одуряющая боль.
«Одуряющая» — подействовало. Иетс верил рассказу, верил каждому его слову; такие подробности придумать нельзя. И все же он не мог отделаться от ощущения какой-то странной неуловимой несообразности, словно эти два тела — то, что сейчас предлагало ему себя, и то, которое коченело в ледяной ванне, одинаковые оба, вплоть до крохотной родинки за ухом, — все же не принадлежали одной и той же женщине.
— Что же было потом? — терпеливо спросил Иетс.
— Очевидно, я потеряла сознание и упала. Очнулась я у себя в камере. Одеяло с меня сняли, а окно было открыто. Я вся обледенела. А может быть, мне это только казалось. Не знаю. Потом я долго была больна, лежала в тюремном лазарете. Я думала, что умру. Но я оправилась. И тогда меня перевели в Бухенвальдский лагерь.
Она умолкла. Все, что можно, она сделала. Самое трудное — это начать, твердо поставить ногу на первую ступеньку. Дальше пойдет легче.
— Но почему они применили к вам такие особые меры? — спросил Иетс.
— Я сама думала над этим вопросом, — сказала она.
— И к какому же выводу вы пришли?
Она ясно видела, что непосредственное впечатление от ее рассказа уже рассеялось. Весь вопрос в том, насколько глубокий след оно успело оставить в этом американце.
— Мне кажется, что кто-то отдал распоряжение не уродовать мое тело… — И тут же она прибавила: — Его не изуродовали ничуть.
Иетс принял к сведению этот намек. Оставалось назначить ей час и место. Все очень просто. Только для этого она сюда и явилась. Предложить себя, а он за это пусть даст ей комнату, американские продукты и платья. Это было откровенное деловое соглашение, и таких случаев он знал немало.
Да, но слишком уж тут все просто. Слишком просто и слишком дешево.
— Рад слышать, что физически вы не пострадали, — сказал Иетс. — Чем я могу быть вам полезен?
Она повернулась так, чтобы дать ему возможность полюбоваться линией ее профиля, изгибом шеи и груди.
— Вы такой добрый…
Конечно, он добрый. Может быть, все-таки разрешить себе эту передышку на одну ночь? Разве он не заслужил? И она хочет того же. Нет, она хочет большего. И пусть даже ледяная ванна — только плод ее больной фантазии или неосуществленная угроза, пусть то, что она ему рассказывала, — только наполовину правда, но она была в Бухенвальде и она заслуживает лучшего отношения.
Видя его нерешительность, она попыталась прийти ему на помощь:
— Мне через многое пришлось пройти. Я хочу стать лучше, чем была. Я на все готова ради этого.
Это он знал.
— Мое прошлое мне очень мешает, — сказала она. — Конечно, нацисты уже не у власти, но…
Это он тоже знал. При лемлейновском правлении реабилитация бывших заключенных зависела от личной удачи. Одни, как эта девушка, вступали на такой путь; другие, подобно Келлерману, его отвергали. Ну что ж, если встать на ее точку зрения и принимать жизнь как она есть, нужно стараться извлечь все лучшее. Но это лучшее казалось недостаточно хорошим Иетсу.
— Американцы… — начала она с надеждой в голосе.
— Вы решили сделать ставку на американцев? — Он перешел на родной язык. — Вы говорите по-английски?
— Немножко. Училась в школе.
— А печатать вы умеете?
— Печатать?