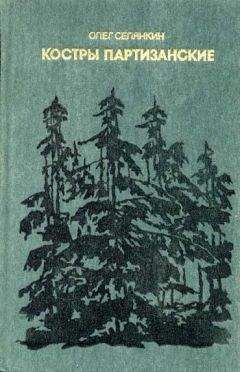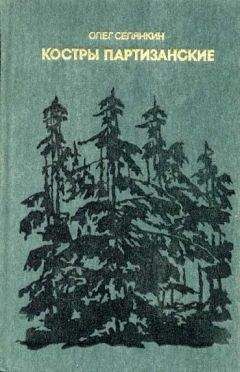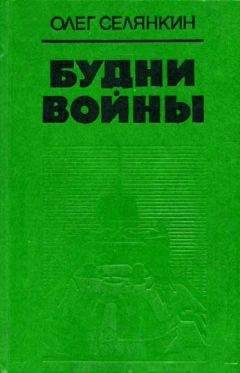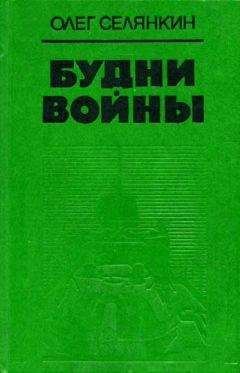Защепа словно ждал этого вопроса и ответил сразу:
— Что нельзя, Виктор, то нельзя. Здесь война с фашистами только начинается.
— Так я же значкист! И ГТО, и ГСО, и ПВХО у меня есть! Даже нормы на «Ворошиловский стрелок» сдал, только значок не получил еще!
Защепа неожиданно тепло улыбнулся и сказал:
— Все это у тебя на лбу и написано. И что комсомолец, и значкист ты. И вообще — до мозга костей советский. Потому и подошли к тебе, потому и помогаем к своим выбраться. Здесь ты запросто выдашь себя и погибнешь… Ну, привет там всем нашим!
Виктор проводил глазами катер, повернувший обратно в Припять, и осмотрелся. Вот он, Днепр. Ничего река, даже на Туру похожа: в меру широка, и правый берег крутой, обрывистый. За Днепром чуть синеют леса. Кажется, нет им конца и края, но, помнится, на уроке географии говорили, что здесь лесостепь, постепенно переходящая в степь. Значит, леса — обман зрения. И вообще многое на земле — обман, если не зрения, то слуха или еще чего. Взять вот эту тишину, которая так нежно обволакивает и баюкает землю. Сплошной обман эта тишина. Она в любую минуту может взорваться выстрелами, предсмертными криками людей. Как тогда, при бомбежке поезда.
Да и среди людей полно обманщиков. Вон какой ласковой и доброй прикидывалась Анелька, а что за этим обнаружилось? Подлость и забота лишь о своем благополучии. Или взять пана механика. Ласковый, услужливый, через слово клянется честью шляхтича, а копнули поглубже — самый обыкновенный вор. И труслив, как всякая блудливая кошка. Чуть прижал его Защепа — до того перетрусил, что отдал деньги с платком, в который успел завернуть их.
Полезли в голову подобные мысли, и вслед за ними незаметно стало подкрадываться и чувство своего превосходства над людьми. Не над теми, которых знавал в Тюмени, не над Защепой и его товарищами по подпольной работе, а над всеми прочими. Это чувство личного превосходства тут же породило и вскормило мысль о том, что он, Виктор, для достижения намеченной цели вправе пользоваться даже ложью. И, когда на околице деревни его задержал полицейский, он вежливо и твердо попросил проводить его к самому пану старосте или к еще более высокому начальству, если оно есть здесь. Этот тон был настолько непривычен для полицейского, что он послушно зашагал к дому старосты и постучал в окно. Через мгновение из дома прозвучал равнодушный голос:
— Кто там ночь баламутит?
Виктора будто кто-то толкнул в спину. Он вышел вперед, поклонился и сказал, подражая пану механику:
— Если пан староста не возражает, я бы хотел поговорить с ним.
Створки окна бесшумно распахнулись, и Виктор увидел одутловатое лицо старосты. Поклонившись еще раз, он представился, как учил Защепа:
— Пан Капустинский, следую в Смоленск.
Что больше повлияло на старосту — «пан Капустинский» или отменная вежливость, — осталось неизвестно, но уже через несколько минут Виктор сидел за столом в доме старосты и, глядя прямо в его жуликоватые глаза, безбожно врал про свой род Капустинских, который хорошо известен даже в Варшаве. Еще он говорил, что идет в Смоленск, чтобы вступить в права наследства, и, когда это случится, не забудет пана старосту и щедро вознаградит за сегодняшнее беспокойство, виной которому война.
Сказка ли эта или злотые, которыми Виктор щедро расплатился за еду и ночлег, повлияли на старосту, но он оставил Виктора ночевать у себя, а утром даже пристроил на попутную подводу.
Сошла удачно первая ложь, и теперь Виктор, завидев полицейских или немцев, более спокойно шел к ним, врал еще самозабвеннее. Его выслушивали доброжелательно, с сочувствием, но следовать дальше разрешали лишь после того, как он совал старшему наряда несколько злотых. Пачка денег растаяла быстрее, чем Виктор понял, почему ему все же удается продвигаться на восток, хотя застав, проверяющих документы, с каждым днем становилось все больше. А когда понял, стал обходить стороной села и городишки, только в маленькие деревеньки и заглядывал, да и то предварительно понаблюдав из леса за их улицами.
Пусть голодно, пусть холодно, но все-таки спокойнее.
6
Следов недавних ожесточенных боев становилось все больше. Не только воронки от многих бомб, но и извилистые окопы, перерезающие дорогу или подползающие к ней вплотную, часто видел теперь Виктор. Попадались и развороченные взрывами блиндажи, и пулеметные гнезда, от которых несло могильным холодом. Но больше всего запомнилась одна деревенька, поразившая безмолвием и трупным запахом, которым, казалось, здесь были пропитаны и воздух, и земля, и даже солнечные лучи. Виктор молча крался вдоль домов с выхлестанными окнами и вдруг вышел на маленькую площадь. Здесь навалом лежали тела жителей это деревеньки. Граница царства смерти была обозначена дощечкой с четкой надписью: «Они расстреляны за саботаж. Комендант района — гауптман фон Зигель».
Миновав деревеньку, Виктор долго плескался в речке, но до самого вечера не смог отделаться от въедливого трупного запаха. Именно тогда Виктор с отчетливой ясностью представил Тюмень не такой, какой знал ее, а мертвой, как и эта неизвестная деревушка. Стало страшно. И еще он подумал, что теперь ненавидит фашистов по-настоящему.
Обойдя Смоленск стороной, Виктор задумался: что врать теперь? Полицаям и прочей сволочи — сказка готова, а как быть с народом? Здесь уже коренная советская земля, и тут нечего рассчитывать на сочувствие какому-то пану, пострадавшему от большевистской революции.
Ничего не придумал. Только еще глубже залез в леса и перелески. В одном из таких лесов опять почувствовал трупный запах, хотел и не мог уклониться от него.
Вот и небольшая полянка среди молодого ельника. На ней лежали солдаты. Наши и немецкие.
Он обошел и осмотрел всех. Особенно долго стоял у тела лейтенанта, на груди которого тускло поблескивала медаль «За отвагу». Виктор снял ее и спрятал в карман. Взял и пистолет, выпавший из раздувшихся пальцев лейтенанта, и ушел. Он шагал по лесу и сжимал в руке шершавую рукоятку пистолета. От нее по телу разливалось тепло, от нее струились сила и уверенность: теперь у него есть оружие, теперь он может постоять за себя. Рукоятка пистолета и медаль «За отвагу» подсказали и новую биографию: теперь на восток пробирался не панский сынок, а лейтенант Красной Армии Виктор Капустин; примерно месяц назад он был контужен, сколько пролежал без сознания — не знает, а когда пришел в себя, своих уже не было. С тех пор идет один. И будет идти, пока не догонит фронт!
Все это рассказал Виктор и хозяину одинокого домика, затерявшегося в лесу. Тот выслушал его вроде бы даже сочувственно, ни разу не перебил, потом вдруг откуда-то принес советский автомат, приклад которого куснула пуля, положил его перед Виктором и сказал, словно скомандовал:
— А ну, покажь, как с этой штукой обращаться положено.
Виктор, конечно, потупился.
Тогда хозяин домика с ловкостью заправского оружейника разобрал и собрал автомат, показал, как вставлять в него магазин, как переключать с одиночной стрельбы на автоматическую, и сказал на прощание:
— Молод уж больно ты для лейтенанта. Сопляк, а не лейтенант! И болтлив сверх меры. Может, я контра какая, а ты во всю мочь раскукарекался…
Больше при встрече с незнакомым человеком Виктор ни разу не начинал разговора о том, кто он такой, куда и зачем идет. Теперь он сначала приглядывался к встречному и лишь потом, убедившись, что тот не враг советскому, раскрывал ему свою «тайну». Да и то намеками. В заключение, чтобы окончательно убедить собеседника в правдивости своего рассказа, перекладывал из кармана в карман медаль. Так долго и «неловко» перекладывал, что собеседник успевал заметить ее. А медаленосец в те годы был человеком редкостным, и поэтому для Виктора частенько находились и еда, и безопасный ночлег. Короче говоря, жить можно было. Однако теперь, когда Виктор шел уже восточнее Смоленска, почти в каждой деревне стояли полицейские посты, которые цеплялись к каждому прохожему; значит, и деревни теперь тоже приходилось обходить. А дни стали заметно короче, ночи — холоднее; вторая половина сентября теплом не баловала. И главная беда — дожди. Вот уже пятые сутки дождь шуршит в листве деревьев. Кругом все серо: и небо, улегшееся на лес и придавившее его, и земля, по которой шел Виктор. Даже белые березки будто подернуты серой пеленой.
Пятые сутки льет дождь, и пятые сутки Виктор без сна. Кругом сыро и холодно, а на нем только рубашка и пиджак, давно промокшие до нитки. Иной раз, окончательно обессилев, только присядет Виктор под деревом, только сожмется в комок и закроет глаза, чтобы забыться во сне, — немедленно набрасывается неуемная дрожь и нещадно колотит. Приходится подниматься и снова идти, даже бежать, чтобы вернуть телу потерянное тепло.