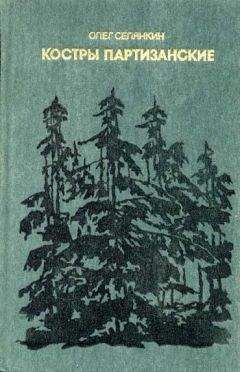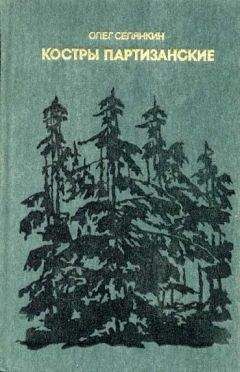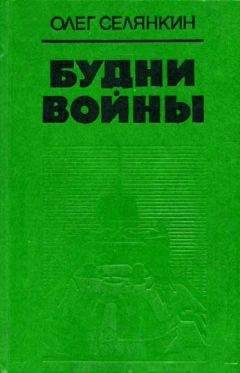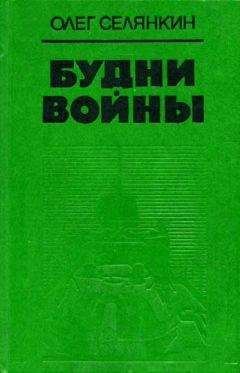— Ты мне вот что скажи, — начал дед, доставая из Кармана кисет. — Сломана под корень, что ли, наша армия?
— Понимаете… Если рассуждать…
— Ты не финти. Это с девками — они, кобылы, до слов охочи — можно байки разводить, а я солдат, мне твердое слово потребно. Сломана или нет?
За считанные доли секунды в голове мелькнули те, кого он видел, встречал на своем пути. Мертвые и живые. И он ответил зло, уверенно:
— Не сломана и никогда не будет сломана!
— Слышь, Клавдя, что человек говорит? — выпрямился дед. — Я, девка, сам солдат, меня, девка, не обманешь! — И спросил, понизив голос до шепота: — Слышь, а может, его нарочно к Москве заманивают? Чтобы, как Наполеошку?..
Виктор никогда не задумывался над причинами отступления нашей армии и поэтому ответил:
— Я человек маленький, что мне известно? Вот у товарища бы Сталина спросить…
— Оно конечно… А ты-то сам как думаешь? Твоя-то планида какая: у нас осядешь или, передохнув денек, дальше тронешься?
— Присмотреться, подумать надо.
— Тоже верно… У нас, как народ поговаривает, хорошо бы свою дружину заиметь. Про всякий случай…
— Подумать, дедушка, подумать надо.
— А я спорю разве? На то человеку голова и дана… А то женился бы на Клавде да и послужил миру? А что? Дело говорю.
— Можно, я потом отвечу? Через день или два? — взмолился Виктор, которого настойчивость деда приперла к стенке.
И вообще он еще не думал, как поступить дальше. Да и как еще дело обернется, если он прямо скажет, что завтра уйдет? Может, обидятся? С людьми разговор ведешь — каждое слово взвешивай и примеряй.
8
Два дня Виктор отсыпался и сидел дома, поглядывая в окно. За эти дни к Клаве под разными предлогами заходили сначала соседки, а потом и другие жители деревни. Все они, попросив какую-нибудь мелочь, неизменно рассматривали Виктора, которого Клава, как и условились с дедом Евдокимом, выдавала за студента-однокурсника, который случайно оказался в этих краях.
На третий день Виктор проснулся с рассветом и вышел на крыльцо покурить. Ветер разметал тучи, висевшие над деревней, и розоватый шар солнца степенно взбирался на крутой скат неба. Над маленькой речкой клубился туман; где-то голосисто заливался петух.
Виктор, улыбнувшись ясному дню, решил осмотреть свое новое жилище.
Дом — обыкновенная бревенчатая изба; четыре окна по фасаду и два с той стороны, где примыкало крылечко в три ступеньки. Тыльная сторона дома соединялась с коровником, над которым был сеновал. Все было сделано добротно, и Виктор не смог увидеть ни малейшей прорехи, залатав которую, он проявил бы способности хозяина. Конечно, настоящий деревенский житель нашел бы дело, но неопытный глаз Виктора уцепился только за неразделанные березовые кругляши. «Расколю, подготовлю к зиме», — решил он и впервые подошел к калитке, посмотрел вдоль деревенской улицы. Всего двенадцать домишек, разбросанных по обеим сторонам дороги, увидел он.
У каждого дома чуть шевелят полысевшими ветвями березы. У многих из них на коре отчетливо видны черные наросты — верный признак старости. Может, и французов видели эти березы, когда те драпали от Москвы?
— Здорово живете, — вдруг услышал Виктор мужской голос, и, вздрогнув, оглянулся.
— Испужался? — невесело усмехнулся подошедший.
Было ему немного больше двадцати, и Виктор догадался: «Один из тех двух, что здесь осели».
— Здравствуй, — сухо ответил Виктор.
— Прицеливаешься к деревне? Места — дачные. Только время совсем другое.
Что ответить, как поддержать разговор? Отмалчиваться неудобно, а слов тоже нет.
— Меня Афоней дразнят. Служил в артиллерии, да вот как попали в переплет, один и уцелел от всей батареи… А ты из каких будешь? Тоже из окруженцев или как?
— А тебе какое дело? Ты, гляжу, уже определился, крестьянином заделался, — огрызнулся Виктор, которому были противны и любопытство, и тревога в глазах Афони.
— Тоже клеймишь, значит? А что я один сделаю, если вся армия с землей перемешана?.. Молчишь… То-то и оно, сказать нечего, а коришь, совесть тревожишь… Чистоплюй несчастный! — Афоня, круто повернувшись, зашагал к речке.
Виктору не понравился Афоня, но все же не было намерения и обидеть его: может, рядом жить придется? Однако сделанного не воротишь, и, немного расстроенный и взволнованный этим случайным разговором, Виктор вернулся в дом.
Оказывается, Клава тоже уже встала, растопила печь и, едва он перешагнул порог, спросила:
— Поругались, что ли?
— Не так чтобы и поругались, но неладно вышло. — И он рассказал о своих впечатлениях, вызванных встречей с Афоней.
Клава отреагировала на удивление спокойно:
— Обойдется. Афоня — мужик добрый, только странный какой-то. Ему все надо, чтобы люди оправдали его… Я думаю, что виноват он в чем-то, вот совесть его и мучает. От нее ничего не скроешь.
Разговор надолго оборвался. И вдруг Виктор сказал:
— У меня комсомольский билет размок.
— Ой, Витенька! — всплеснула руками Клава и, будто враз обессилев, опустилась на табуретку. — Как же это ты так неосторожно?
— Много ты понимаешь! — обозлился Виктор. — Под стелькой в ботинке он был, а кругом вода… Соображать надо.
Долго молча переживали беду. Наконец Клава спросила, с надеждой заглядывая в глаза Виктору:
— Может, только немного подмок? Виктор достал из кармана билет. Лишь номер и можно было разглядеть на нем.
— Знаешь, а ведь тебя в комсомоле по номеру билета восстановят! — обрадовалась Клава. — Встретишься с нашими, расскажешь, при каких обстоятельствах намок билет, и восстановят!
Славная она, Клава…
Оказывается, у нее и брови, и ресницы черные, а волосы светлые…
Виктору захотелось пальцем прикоснуться к бровям Клавы; он было уже потянулся, но уловил нарастающий рев нескольких автомобильных моторов и замер. Побледнела Клава. Метнулась к окну, на мгновение прильнула к нему лицом и отшатнулась.
— Немцы, — как тоскливый вздох, вырвалось у нее. — Если спросят, кто мы, отвечай — муж и жена, — торопливо добавила она и, казалось бы, бесцельно заметалась по дому, бормоча что-то. Однако куда-то бесследно исчез комсомольский билет, который они рассматривали недавно, а вместо него на колени Виктора шлепнулся изодранный валенок:
— Чини!
— Как его чинить, если дыр больше, чем целого?
— Разрывай его на части или чини — мне все равно! Только делай, хоть что-то делай, ради бога! Где это видано, чтобы мужик вот так, сложив руки, дома сидел?
И, когда дверь распахнулась от тяжелого удара, Виктор яростно полоснул ножом по перепревшей дратве.
— Ж-ж-жива на сход! Шнель, говорю! — взревел полицай, ощерив белозубую пасть.
— Не бойся, это наш Дёмша, — прошептала Клава, но заторопилась.
По деревенской улице они шли, как и остальные законные супруги: она — на шаг сзади и чуть слева.
Народ — несколько десятков женщин и детей — с любопытством и тревогой разглядывал немецкого офицера. Он стоял на столе и равнодушно постукивал прутиком по зеркальному голенищу сапога. В первом ряду толпы был дед Евдоким. И еще Виктор заметил Афоню. У него дергалась щека, он смотрел на немца со страхом и ненавистью. Борьба этих двух чувств была так заметна на его лице, что молодка, стоявшая рядом с Афоней, почти повисла на нем, нашептывая что-то посиневшими губами. Виктор понял: Афоня сейчас настолько взвинчен, что готов и на безрассудный подвиг, и на самую большую глупость — на что толкнет случай. Стало жаль Афоню, и Виктор, раздвигая плечом толпу, пробился к нему, стиснул его руку. Тот оглянулся и яростно зашептал:
— Как стоит, гад, а? Будто он здесь хозяин, а мы — пустое место!
Действительно, немец словно не видел людей, сгрудившихся у его ног.
— Спокойно, Афоня, спокойно! — властно зашептал Виктор. — Или я первый тебе в морду дам!
Афоня глянул на него и сник, подчинился приказу. В это время на стол вскарабкался человек в штатском, встал так, чтобы даже нечаянно не задеть офицера, и уставился преданными глазами на его бесстрастное, сухое лицо. И столько рабской угодливости было во взгляде и позе человека в штатском, что, хотя он еще не произнес и слова, Виктор уже люто ненавидел его.
Наконец офицер заговорил. Виктор четыре года изучал в школе немецкий язык, был даже отличником, но сейчас ничего понять не мог. Так отрывиста и криклива была речь офицера.
— Господин комендант района гауптман фон Зигель доводит до вашего сведения, господа свободные землепашцы, что в Степанкове бандиты убили солдата великой немецкой армии, за что и наказаны, — перевел человек в штатском.
Далее он говорил о том, как доброжелательно немецкое командование относится к землепашцам, а закончил так: