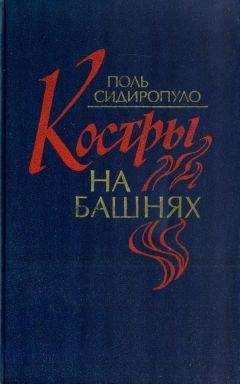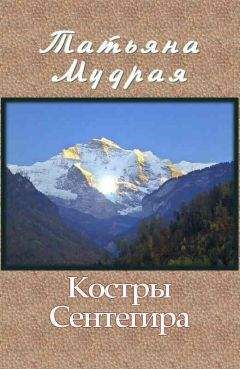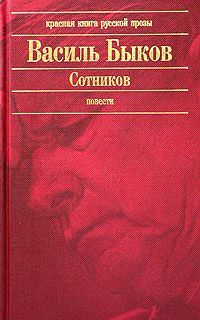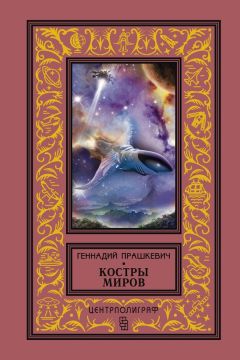— Еще день полечим, — сказал Мишо, — закрепим сделанное. С другой стороны — в сельсовете назначена встреча. — Мишо передал Карстену две пары домотканых шерстяных носок и настрого наказал: — Одну пару надевай сейчас, другую — держи на смену. Помни — без них теперь тебе нельзя.
— Ваше слово, отец, закон, — ответил ему Карл.
Немного погодя он признался Виктору:
— Сон приснился, представляешь. Будто поднимались мы на Эльбрус. Добрались до самой макушки и вдруг… Я оступился на скользком гребне. И полетел вниз. Проснулся — весь в поту. Сердце стучит. Ты знаешь, о чем я подумал: а что, если бы это случилось на вершине?
— В беде бы не оставили.
— Понимаю. А с ногой? Капут. Пока спустились бы… Наверно, я родился под счастливой звездой. Спасибо старику. И тебе я благодарен. Ты — настоящий друг. Никогда я этого не забуду, Виктор. Приеду домой, расскажу отцу, жене, матери… Какие здесь замечательные люди!
…А через двое суток нечто подобное прокричал Карл с высоты в пять тысяч шестьсот сорок два метра:
— Я здесь, на Эльбрусе! На Эльбрусе! Спасибо вам, друзья! — Он обхватил Виктора за плечи, добавил: — Клянусь — это самый счастливый день в моей жизни.
Внизу, вроде бы и не так далеко, простиралось бескрайнее Черное море.
Отставной генерал Вильгельм Эбнер, седой, сухопарый, но все еще крепкий старик, ждал сына с раннего утра. Он знал, что Конрад прибудет только к обеду, как они предварительно условились, однако готовился к встрече заранее. Он выверял тщательно, скрупулезно то, что намеревался сказать сыну. Раньше об этом он ни разу не говорил Конраду — не было желания, да и повода тоже. Теперь, пожалуй, в самый раз, время подходящее: доблестные войска фюрера подступили к самому Кавказу. Исполняется его заветная мечта! Но торжествовать еще рано…
Вильгельм Эбнер привык вставать очень рано. Прежде после легкого завтрака он садился за письменный стол у себя в кабинете — решил в последние годы писать мемуары, поведать о своих походах на Кавказ, в Испанию, Польшу, высказать кое-какие соображения, полагая, что они непременно пригодятся, вызовут живой интерес в среде нынешних германских полководцев. Но сегодня уже с утра, а не после обеда, как это делал обычно, он пошел в сад, возился в грядках, склоняясь над зелеными побегами, очищал от сорняков, сердито вырывая траву загоревшими высушенными руками, которые напоминали обнаженные корни.
Физический труд, считал Эбнер, освобождает голову для дум, для ценных мыслей и занимает при этом полезным делом руки.
«Очень важно, чтобы молодые тевтоны учли опыт старших, — размышлял вслух Вильгельм, как если бы собеседник был рядом и требовались его неотложные наставления. — На ошибках нужно учиться и нечего тут становиться в позу. Уж я-то знаю, повидал всякого. Славно, что наша армия дошла до Кавказа. Но нужно помнить и другое, что предстоит не только преодолевать едва доступные горы, пробираться по подчас непроходимым тропам, осиливать опасные теснины… Не менее важно знать, как найти с горцами общий язык, ключ к их сердцу. Без этого не покорить народ, и операция может безнадежно провалиться…»
Вильгельм был молчаливым по натуре человеком, а с годами стал еще более замкнутым в себе; жил без жены, да и когда была жива его постоянно молчаливая, незаметная и покорная спутница, то и тогда особого желания поговорить с ней он не испытывал. И к детям, сыну и дочери, был подчас излишне строг и сварливо твердил, что не стоит тратить время на бессмысленную болтовню, а необходимо с пользой занимать свободное время.
Жители соседних домов питали к Эбнеру почтительный интерес, заискивающе улыбались ему при встрече, первыми кланялись, здороваясь. Немногим, правда, удавалось проникнуть к нему в дом, заслужить его расположение.
Вильгельм винил себя за то, что, провожая Конрада на Восток, не поделился с сыном своими сокровенными мыслями, будто без этих слов его, дельных советов и настоятельных наставлений военные действия немецких частей на Кавказе будут менее результативными. И сейчас, как только прибыл Конрад с Восточного фронта на день-другой то ли с каким-то донесением, то ли инструкцией в связи с новым назначением и позвонил отцу, Эбнер-старший потребовал явиться к нему.
Здесь, в саду, незадолго до обеда они встретились.
— Здравствуй, отец.
— Здравствуй, Конрад.
Велико было желание Вильгельма поцеловать сына, обнять и сказать ему: молодцы, мол, доблестные сыны Германии! Ведь немало сделали во славу фюрера и родины — вон как глубоко вонзились стрелами в огромное тело России, до самого Кавказа дошли за год с небольшим! Хотя и рассчитывали на молниеносную войну, быстрое продвижение… Но сработала давняя привычка, и ничего такого Эбнер-старший себе не позволил, встретил сына со свойственной ему сдержанностью и только подставил гладко выбритую сухую щеку для поцелуя.
Конрад, привыкший к такой неизменной родительской черствости, поцеловал отца в щеку и пошел с ним рядом мимо деревьев, отмечая про себя, что отец по-прежнему держится молодцом.
— Ну как ты? — спросил он, чтобы начать разговор.
Конрад относился к отцу всегда с уважением, несмотря на то что не испытывал к нему душевного тепла. Еще хуже обстояло дело с его сестрой: странным, противоречивым было отношение ее к старому отцу. Она рано вышла замуж, как только подвернулся жених, и уехала — не смогла, не захотела жить у отца.
«Умный вроде бы у нас родитель, — призналась она как-то брату, — но много в нем такого, что губит тебя, угнетает, лишает чего-то тебя такого, без чего — хоть в петлю. Как будто ты у него в плену, понимаешь?»
Разумеется, нечто подобное происходило иной раз и с ним, Конрадом. Разница лишь в том, что он никогда не жаловался и был убежден, что нужно уметь держать себя в кулаке.
У Эбнера-старшего сегодня было на редкость хорошее настроение, и он ответил:
— Мои дела ничто в сравнении с твоими… — И спросил: — Почему ты не привез с собой жену? Да и с внуками своими я давно не виделся.
Прежде о жене Конрада он бы и не вспомнил. Никогда он не интересовался семьей сына, столько же и семьей дочери; редко виделся со своими внуками, и если скучал, что бывало очень редко, либо возникало внезапное желание дать какое-нибудь неотложное наставление, то звал сына и дочь — и никого более.
— Домой я не заезжал, — ответил Конрад. — После приема сразу же к тебе помчался.
Разумеется, он мог бы позвонить жене, чтобы была готова, и по дороге заехать за ней: она, естественно, обрадовалась бы и удивилась — в кои времена захотел увидеть ее свекор!
— Насколько я помню, — заговорил Вильгельм уже о другом, что больше всего интересовало и беспокоило его, — наши войска находятся неподалеку от тех мест, где довелось побывать и мне?
— Да, отец, — коротко и не без самодовольства отрапортовал Конрад. — Как только выйдем к перевалам…
— Да, сын! — Эбнер-старший едва сдерживал свое ликование. — Интересно, очень интересно… — Он думал о чем-то своем, напряженно смотрел перед собой. — Большие силы брошены на Главный Кавказский хребет, — рассуждал как бы сам с собой. — Похоже, ничто теперь не должно нам помешать. И боевая техника у нас…
Вильгельм замолчал, задумчиво уставился в зеленую густоту посадок.
— Кавказ… — Красные пятна вспыхнули на бледном худом лице его, как бы хотелось ему побывать в тех местах.
— Тебе, отец, было бы интересно побывать в знакомых местах, — вымолвил Конрад так, будто подбивал отца открыться дальше. Сегодня ему, как никогда прежде, легко и просто говорилось с ним.
— Да, сын мой, ты угадал, — признался Эбнер-старший, перехватив взгляд сына, который внимательно наблюдал за каждым отцовским движением. — Вы удачливее нас. Но не забывайте! — словно ко всем немецким солдатам обращался он с торжественной строгостью. — Это мы постарались для вас. Отцы, старшие братья. Родители. У вас хорошая база. У нас, к сожалению, такого вооружения не было… — Его слова прозвучали несколько раздраженно, и, поняв это, он тут же сменил тон, продолжил мягче и доверительнее: — Не будем, конечно, делить славу. Наша она, общая для всех. И мы, и вы делаем одно общее дело, чтобы прославить нашу великую Германию.
— У тебя, как всегда, в отличном состоянии огород, — похвалил Конрад отца, обратив внимание на его выпачканные землей руки. — И когда ты успеваешь?
— Твой дед приучил меня к труду. — И чтобы не прозвучали его слова упреком, поскольку так и не смог приобщить сына к земле, добавил: — Когда занят делом — отвлекаюсь.
Вильгельм не стал жаловаться сыну, что последние дни донимают его неприятные сны, и каждый раз одно и то же: горят деревни, то ли кавказские, то ли испанские, и весь этот ужас сопровождается отчетливыми криками женщин, детей. Он просыпался — крики еще долго продолжали звучать в ушах.