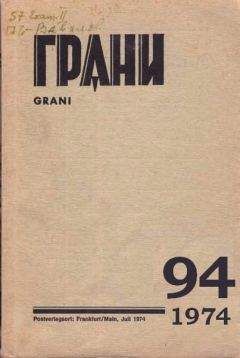— В «Артеке» их брата жучат! — поддакнул студент, сразу как бы отрубая от себя допризывника, хотя только минуту назад выкладывал ему ночные страхи. — А вы когда поспите, товарищ капитан?
— Утром, — сказал Гаврилов. — Утром сны лучше.
9. Ледяная вода и гимнастика
Лия сидела под мостом, никак не решаясь раздеться и залезть в страшную воду. Перед ужином она, как большинство окопниц, только наспех вымыла руки и сполоснула лицо, надеясь замотать обряд вечернего обтирания. «Нехорошо выделяться», — отговаривалась она. «Пропадете, девочка», — спорил с ней печальный голос Елены Федотовны, рослой дамы из квартиры напротив. «Нет, нельзя мне выделяться…» — снова повторила перед ужином Лия, и Елена Федотовна ничего тогда не сказала.
Но сейчас на пустом берегу она, невидимо склонясь над Лией, резким и горьким (как тогда в лифте!) голосом прошептала:
— Больше нам надеяться не на кого!
И Лия сняла пальто и стала расшнуровывать ненавистные мамины ботинки.
Тогда в лифте, в пору папиных неприятностей, Лия, вся обвязанная платками, в гриппу, кашляя и сморкаясь, не успела вовремя отвернуться и обрызгала эту длинную и нескладную, недавно переехавшую в их дом женщину.
— Ой, извините, извините! — Лия отворачивалась к стенке и снова чихала.
— Ничего, девочка, — ответила женщина. — Я вас знаю, — добавила со значением. — Вам надо умываться ледяной водой. Ледяная вода и гимнастика. Больше нам надеяться не на кого, — сказала эта странная женщина и первой вышла из лифта.
Потом, когда Лия не раз обдумывала эти слова, они часто казались ей оскорбительными, потому что папа был все-таки с ней, а муж несуразной дамы — известно где, но в первый момент Лию обдало такой симпатией к Елене Федотовне, что она еще долго стояла на площадке и смотрела на соседскую дверь таким взглядом, словно за ней скрылся принц или народный артист Лемешев. И это «нам», которое потом больше всего коробило, в первый момент растрогало Лию. В нем чудились ей печаль и ласка, упрямая гордость взрослой женщины, и ее уважение к шестнадцатилетней девчонке, и даже, если хотите, обещание дружбы. И за это Лия всегда прощала Елене Федотовне все, что та подразумевала под этим «нам»: наши родные несправедливо страдают, и (это особенно было обидно после того, как у папы дела уладились) хоть у вас, девочка, и есть отец, но все равно «нам» (то есть — вам!) надеяться не на кого… И, встречая теперь Елену Федотовну, Лия всегда радостно краснела, и Елена Федотовна дружески ей улыбалась, и это было значительнее слов. Да и что они могли сказать друг другу, когда через болтливую Ганю Елена Федотовна знала все о Лииной семье, а Лия тоже кое-что знала о несчастной женщине, но не хотела быть назойливой и бередить незажившую рану. Дочке Елены Федотовны, очкастенькой Карине, Лия тоже сначала улыбалась, но та в ответ кивала как-то надменно, а однажды в лифте, думая, что Лии не видно в боковое зеркало, высунула язык. Но Лия почти не обиделась, понимая, что Карина еще ребенок и что, несмотря на все старания Елены Федотовны, у нее очень нелегкое детство.
— Бр-р-рр! — Лия ступила в ледяную воду и только силой отчаяния не выскочила обратно. — Бр-рр! — тряслась она. Казалось, острые ледышки разрезают ноги у щиколоток.
— Иначе нельзя, — вздохнула она, заходя в речку по колено и стаскивая через голову свитер и юбку.
Плечам и спине было уже не так холодно, как ногам, и Лия с неприкрытой злобой, глядя на свои ключицы и маленькие груди, стала нещадно их растирать:
— Так вам! Так вам!
— А мне действительно очень помогло, — робея, сказала она год назад Елене Федотовне, когда они снова столкнулись в лифте.
— Я вас поздравляю, — кивнула та, полагая, что речь идет о восстановленном в партии главе семьи. — Теперь вы сможете учиться.
— Не знаю… Мама очень нездорова…
— Простите, — резко сказала соседка, и Лия поняла, что та считает Лииного отца бесчувственным человеком.
«Конечно, ей обидно, — подумала тогда Лия. — У такой хорошей женщины оказался такой муж… Но, может быть, он просто очень нестойкий человек, и воспользовались его бесхарактерностью… Мужчины часто бывают такими слабыми…»
— Ой! — вскрикнула она, увидев на берегу Гошку.
Тот скромно ушел.
«Деликатный», — подумала Лия, но уже не о Гошке, а о красавце Викторе, с которым Санька познакомилась летом в Парке культуры.
— Вот тебе! Вот тебе! — Снова стала она тереть, теперь уже полотенцем, свое тощее тело. — Да, не Рио-де-Жанейро! — повторила с горечью.
И опять вспомнила последний предвоенный понедельник, точнее вечер его, с той самой минуты, когда зазвонил телефон.
— Меня! — выпорхнула Санька из комнаты. — Лию?! — удивился в коридоре ее голос. — А кто требует? — Санькино сопрано, казалось, вспархивало до потолка и оттуда тройным сальто или ястребком в мертвой петле опускалось в телефонную трубку. — Так это я, Александра. Не признали? — разливалась Санька в коридоре, вовсе не собираясь звать Лию. — Ждите на Дзержинского! Я в две минуты! — крикнула Санька и тут же влетела в комнату.
— Подруга, дай «летчика»,[1] — она порылась в Лиином кошельке, — а то на белое у меня хватит, а вдруг он портвейн пьет. Ты пока приберись тут маленько! — И, схватив Лиину сумку (вот эту самую, общую сейчас на двоих, где были хлеб, документы и полотенца), выскочила из квартиры.
Через сорок минут Виктор позвонил три раза, и Лия, пугаясь Санькиной матери-дворничихи и Гани, которая чаще околачивалась в их квартире, чем у соседей, открыла дверь.
— Простите, что я так… — Виктор развел пустыми руками. — Но я действительно не собирался в гости.
Лия стояла перед ним, нерешительная и маленькая, и ее робость передавалась ему.
— Вот сюда, — наконец выдавила она и повела Виктора в комнату, но двери за собой прикрыла не до конца. — Санюра сейчас вернется.
Она это сказала просто потому, что надо было что-то сказать, но тут же покраснела. Выходило, что она сама понимает и заранее согласна, что молодой человек пришел не к ним обеим, а только к Саньке.
— Да, она мне сказала, — тоже краснея, кивнул студент. Он еще сам не решил, к кому пришел, и ему было неловко.
Санька влетела хлопотливая, шумная, смущение в ней не ночевало.
— Чайник не ставила?.. Сейчас, в один момент, — щебетала она, словно не впервые, а всю жизнь угощала у себя молодых людей.
— Да я не голоден, — смутился Виктор.
— При чем тут голод?! Со знакомством надо! — шумела Санька, выставляя на стол из сумки четвертинку, пол-литра портвейна, коробку килек и свертки по двести граммов колбасы и сыра.
Лия покорно пошла кипятить чайник.
— Во дает! Матерь схоронить не успела, — встретила ее на кухне Ганя, которая по случаю интересного гостя не торопилась на свою Икшу.
— Лександру гони, — буркнула Санькина мать.
— Мать зовет, — сказала Лия, возвращаясь в комнату.
— Вот на мою голову! — хохотнула Санька. — Вы не скучайте — я разом!
— Шумная она у вас, — улыбнулся Виктор.
— Хорошая, — поправила его Лия, стараясь не сердиться и не завидовать подруге.
— Вместе живете?
— Нет. То есть — да… Санюра — у меня. Временно… Она очень много за мамой ухаживала… — сказала Лия и, вспыхнув, добавила: — Мама уже умерла, — чтобы молодой человек не подумал, что Санька что-то вроде сиделки или домработницы.
Он кивнул. У него было хорошее лицо, не только красивое, но еще и очень интеллигентное. Лии захотелось просто с ним посидеть-побеседовать, но она не знала, как начать разговор, боялась быть назойливой и, понимая, что сейчас вбежит подруга, глупо повторила:
— Санюра сейчас вернется.
— Ой, беда со старыми! — Санька влетела в комнату. — А ты чего? Хлеб не нарезан, консерв не вскрыт. Ой, подруга! Да не робей, не съест он тебя. Наш ведь, московский.
— Я из Саратова, — сказал студент.
— Ой, а не похоже — не окаете. Ну, раз в Москве, все равно что московский. Нате, орудуйте! Мужское занятие… — Она протянула ему консервный нож.
Лия трижды чокалась с ними, но себе в рюмку доливать вина не позволяла и все порывалась уйти.
— Погоди, мамаша ляжет, тогда… — каждый раз шептала Санька.
Наконец радио договорило свои известия, включило Красную площадь с боем часов, и Лия, взяв с этажерки толстую тетрадь и учебник физики, тихо вышла на кухню. Тетя Ганя, слава богу, уже отправилась на свою Икшу, и квартира спала. Лия прикрыла дверь, зажгла нещедрый кухонный свет и села к своему столу. «Правило правой руки — стержень и обмотка…» — пыталась она сосредоточиться, но законы магнитной индукции никак не шли в голову, потому что мысли волей-неволей отрывались от учебника и на цыпочках пробирались назад, в комнату, где сейчас должно было произойти что-то тайное и великое.