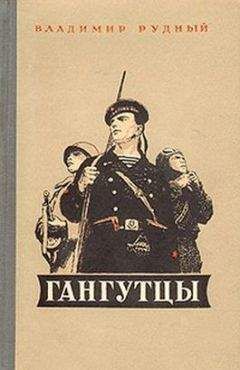Кабанов и Расскин поспешили в порт.
«Гафель» и катера МО доставили половину команды «Сметливого» и почти шестьсот гангутцев — больше они и не смогли бы принять на борт.
Первые потери. Кабанов и Расскин понимали, что после каждого прорыва обстановка в заливе осложнялась. Не для красного словца говорил Кабанову Дрозд о главном направлении. Сможет ли Ленинград оторвать от себя еще силы в помощь гарнизону полуострова? Сможет ли флот рисковать боевыми кораблями и транспортами сейчас, когда стремительно идет зима, когда плавание в начиненном минами заливе станет еще опаснее?..
* * *
Тревожные настали дни для командования полуострова.
В гарнизоне еще не знали толком об эвакуации. Вывоз тылов и раненых многие гангутцы восприняли как начало подготовки к зимней обороне. На Ханко получили ответное письмо героических защитников Москвы. Это письмо звало гангутцев к еще большей стойкости. Выстояв в жестоких боях, люди на полуострове чувствовали себя победителями и не думали, не собирались оставлять его скалы. Но те, кто знал уже об эвакуации, те, на ком лежала ответственность за жизнь и благополучный уход многих тысяч людей, те тревожились: смогут ли корабли снова прорваться к Гангуту?
— Пустили бы нас рейдом через Эстонию, — делился своими мыслями с комиссаром Кабанов. — Как ты думаешь, Арсений, хватило бы у нас сил пробить брешь в ленинградском кольце?
— Точно такие же планы строил и строит Гранин, — сказал Расскин. — Был я у него вчера на Утином мысу. Ведь, кажется, чирьи одолели человека, а не может часа спокойно на месте усидеть. То он со своим домом отдыха возится, то раненых с Хорсена встречает, то инвалидов в хозяйственную команду устраивает. Страдает, что исчезли куда-то «Ильмаринен» с «Вейнемейненом», дал бы, мол, им жизни, и все мечтает пойти куда-нибудь в глубокий рейд. Я сегодня вызвал с Хорсена старшего политрука Томилова. На Хорсене об эвакуации — никаких разговоров. По-прежнему матросы сочиняют всякие прожекты: высадка, рейд, удар по тылам. И ни одной мысли, связанной с простым уходом на кораблях в качестве пассажиров. Вот где наша сила, Сергей Иванович.
— Ей-богу, с таким народом мы можем смело пройти через всю Эстонию и пробить брешь к Ленинграду. Но как в Эстонию попадешь? Разве только по льду?
— Думаешь, не придет Дрозд вторично?
— Придет. Но ведь прав он: главное сейчас там, под Ленинградом и Москвой. Стоит ли из-за нас рисковать большими кораблями?
— Рискуют — значит, стоит.
— Я и говорю: Дрозд придет.
— Ну, а не придет и прикажут нам идти по льду — ведь дойдем, Сергей Иванович?
— Прикажут, и тут останемся, — сердился Кабанов, надевал шинель, высокие сапоги сорок пятого размера и шел на прогулку через парк в город.
Каждую ночь ходил Кабанов на такую прогулку.
Ночи стояли сравнительно тихие. На море шторм; шквалом налетали на Гангут северные ветры. Но снарядов падало теперь меньше. Финны стреляли как по расписанию, поддерживая ленивый, беспокоящий огонь. Словно противнику, истратившему на скалы Гангута полмиллиона снарядов и мин, надоела эта долгая и безрезультатная осада.
Удалось ли им пронюхать про эвакуацию? Эта мысль не оставляла Кабанова ни на минуту.
Накануне контрразведка доложила о двух перебежчиках. К проволочным заграждениям явились двое в разодранной красноармейской форме, подняли руки и беспрепятственно перешли с финской стороны на нашу, утверждая, что бежали из плена. На первом же допросе один из них назвал свою настоящую фамилию, сознался, что финская разведка завербовала его в лагере военнопленных и забросила на Ханко с заданием выяснить, что происходит в порту и какие части находятся на переднем крае.
Кабанов доложил об этом в штаб флота и оттуда ответили: шпиона отправить в Ленинград — при первой же возможности.
Значит, будет такая возможность, не самолетом же отправлять!
Эмбеэрушек осталось две, да и нельзя на них отправлять такой «живой груз»; на истребителях — тем более, да и не долетят истребители… Надо готовить истребители к дальнему перелету, чтобы на каждом были такие бачки, как на тех, что летали воевать на Эзель. С дополнительными бачками и то еле-еле дотянут до Кронштадта, если прикажут туда перелетать… Значит, если приказывают переправить этого шпиона в Ленинград, придут все же из Кронштадта корабли?.. Ну, а финны, они видели и походы, и потери, и все же бросают шпиона, разведывают намерения гарнизона. Значит, они догадываются об эвакуации, но не уверены в этом? А что же другое — неужели предполагают, что на Гангуте происходит смена частей или такое же сокращение войск, как у них, у финнов?!
Кабанов шел по полуострову, вслушиваясь в ночную перестрелку на переднем крае и раздумывая над тем, что сейчас происходит в стане противника: знает или не знает? Немыслимо, конечно, скрыть факт ухода в море многотысячного гарнизона. Но важно запутать врага, возможно дольше держать его в недоумении и нерешительности. Для этого Кабанов приказал повсеместно усилить поиски разведчиков, предпринять демонстративные вылазки на финские острова и, кроме того, на каждый снаряд отвечать двумя и тремя, чтобы внушить врагу убеждение, будто Гангут намерен еще наступать и расширять свою территорию.
«Но и этого мало, — думал Кабанов. — В конце концов они разберутся во всем, что происходит. Тогда потребуются более сложные способы обмана противника».
Далеко, где-то возле Рыбачьей слободки, полыхнуло зарево.
«Снаряд или поджог?» — тревожно подумал Кабанов.
Он постоял некоторое время в парке, наблюдая, как разрастается на западе над лесом хвостатое пламя, потом поспешил на ФКП.
— Запросите сектор, что у них там горит, — приказал он дежурному по штабу.
Кабанов прошел в свою каюту и сказал сидевшему там Расскину:
— Мы не посчитались с одной опасностью, Арсений.
— С какой?
— С возможностью бесцельных поджогов и разрушений.
— Это верно. Людям жалко будет бросать все противнику. Начнут жечь.
— Составь приказ: всякого разрушителя и поджигателя будем судить как злоумышленника и дезорганизатора жизни базы.
— Согласен. Сегодня же через политотдел предупрежу весь политаппарат, чтобы разъясняли матросам, какой вред нам может принести преждевременное зарево. А то ведь вся скрытность ухода пойдет насмарку.
— Только о скрытности и уходе — ни слова. Пусть твои политработники внушат каждому: поджог — преступление, за поджог будем беспощадно наказывать. Готовить людей к эвакуации надо, но исподволь. Губин сегодня доложил, что из своих снайперов-пограничников подготовил арьергард. Начальнику девятой заставы Головину поручил это дело. Каждый наизусть запоминает отход с переднего края через свои минные поля. Но никто, даже сам Головин, не спрашивает Губина, зачем все это надо. Надо — и все.
— У Сергея Головина хороший политрук, — сказал Расскин, знакомый с делами погранотряда. — Андрей Фартушный. У пограничников, Сергей Иванович, школа: народ вышколенный, не болтливый…
Расскин помрачнел, вспомнив о геройской гибели пограничников на Бенгтшере и о муках тех, кто, изуродованный и обескровленный, попал в плен — о них рассказывали «языки», взятые ханковцами. Расскин знал, что ни один из этих мучеников не предал, не выболтал врагу тайн Гангута. Не то горько, что именно он настаивал на высадке десанта, и не то, что так примитивно дал обвести себя вокруг пальца, когда лег отдохнуть, а Кабанов перенес час выхода катеров, — не за это грыз себя дивизионный комиссар; горько, что увлеклись успехами, легкомысленно оценили противника, словно он в поддавки играет, хуже нет так думать о враге, не дураки же, в самом деле, в его штабах сидят: в одном месте прохлопали, в другом тут же подтянулись… Кабанов догадался, о чем это думает Расскин, он сам часто задумывался о Бенгтшере — единственной неудаче жаркого лета, он сказал:
— А все же мы их обманем, Арсений. Выдержка нужна. Хорошо бы теперь тебе съездить к летчикам. Поговори с Ройтбергом и Бискупом — пусть ладят на каждый самолет дополнительные бачки. Расчет — на четыреста километров без посадки. Предстоят, мол, дальние поиски в глубоком тылу противника.
— Догадаются, Сергей Иванович.
— Догадываться могут о чем угодно. Болтать не будут.
Но Расскину, когда он приехал на аэродром, не пришлось изворачиваться и туманить: летчики сами догадались поставить на всех машинах дополнительные бачки для горючего, помня, как пригодились они в боях над Эзелем и Даго. Раз приходят к Гангуту корабли, ни одного воздушного разведчика нельзя отпустить живым — надо преследовать и сбивать, а это требует свободы маневра, бензина для длительного полета.
А на приход кораблей гангутцы не теряли надежды, хотя после гибели «Сметливого» казалось, что походы прекращены.