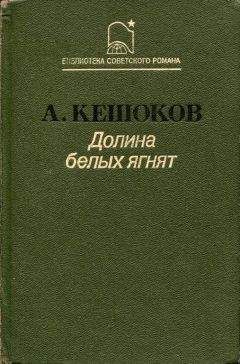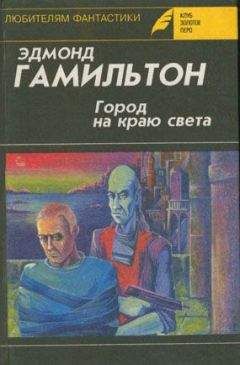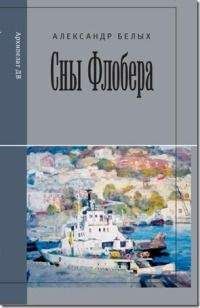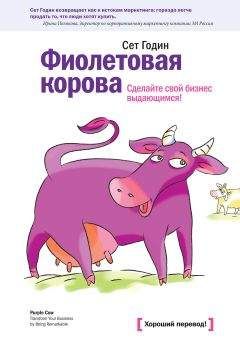— Правильно. Молодец, Аслан. — Апчара чуть не захлопала в ладоши.
— Нет. Это не самопожертвование и не жертва, — заключил Аслан, — это грабеж. Товарищ Чоров просто ограбил детей, чьи интересы был обязан соблюсти. Слова надо употреблять в их подлинном значении.
Кошроков догадался, что это Аслана вызывали в поле на «выездное» заседание, чтобы заставить его строить телятник.
— Клянусь хлебом, ты слова брал из моего сердца! — воскликнула директор кирпичного завода.
— Я за жертвенность в лучшем смысле слова! — Чоров, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, не стал продолжать разговор при уполномоченном, а то чего доброго возьмет услышанное на заметку.
— Молодежь хочет поглядеть, какой кожей подбиты ваши ботинки! — В дверях появился радостный Нарчо, старавшийся казаться взрослым. Увы, неокрепший мальчишеский голосок явно подводил его.
За столом оживились. Кошроков был не прочь посмотреть танцы. Сам он, конечно, не сможет танцевать. Все равно. Надо размяться, нога совсем затекла.
— Вот хорошо! Пойдемте!
За Кошроковым пошли все.
— Тряхнуть бородой? Пожалуйста! — шутил Аслан.
— Я лично могу тряхнуть палкой, — отвечал Кошроков.
Гости поднялись, гремя стульями, и гуськом потянулись во двор. У самого входа в дом молоденькие парнишки дружно и звонко хлопали в ладоши, отбивая танцевальный ритм. Нарчо был назначен распорядителем танцев. Когда гости выстроились полукругом, он громко выкрикнул, словно подавал команду целому эскадрону.
— Кафу! Лучшую кафу!
Гармонистка заиграла кафу — старинную танцевальную мелодию. Молодые, оказывая честь старшим, били в ладони с необыкновенной силой — так, что даже заглушали музыку. Честь выйти первому принадлежала, конечно, Кошрокову, но он стоял неподвижно, опираясь на палку. В круг вышел Чоров, решил показать, чем подбиты его хромовые сапоги. Он четко отбивал ритм. Красивая девушка составившая ему пару, не отрывала глаз от ног партнера, зная, что в танце мужчина может придумывать любые па, а женщина должна подлаживаться под него, чтобы движения обоих, выглядели согласованными. Танцор то плыл по кругу, то неожиданно подскакивал, казалось, он даже нарушает ритм.
— Брось подскоки, ты не футбольный мяч! — с иронией бросила Кураца. Чоров стал двигаться более плавно. Он чувствовал себя на коне. Прищурив и без того узкие глаза и вытянув руки, словно с высоты своего величия глядел он на девушку, на ребят, призывая их хлопать сильней. Кошроков оценил: умеет плясать Чоров! Эх, была бы цела нога, и он попробовал бы свои силы.
После Чорова и Аслана наступила небольшая заминка. И тут Апчара вышла из толпы, встала, стройная, улыбающаяся, перед Кошроковым, еле заметным наклоном головы приглашая его на танец. Парни ударили в ладоши с неимоверной силой — у присутствующих чуть ушные перепонки не лопнули.
Доти приподнял палку, отстраняясь, — дескать, пожалейте, ради бога, и так стоял, не зная, как поступить дальше. На помощь ему пришел Нарчо. Ловко пристукнув каблуками, отчего они словно вонзились в землю, паренек остановился возле Апчары, давая понять, что принимает вызов вместо своего комиссара.
— Молодец, Нарчо! — похвалил «ординарца» Кошроков.
Заиграли плясовую, и Апчара поплыла по кругу за юным джигитом. Нарчо шел на пальцах, оттого казался ростом почти с партнершу. Его сверстники, оценив и находчивость и смелость товарища, хлопали, не жалея сил, хлопали виртуозно — то громче, то тише.
Кошроков, не отрываясь, глядел на Апчару. Вспомнились ему сейчас бои на берегах Сала. Днем и ночью комиссар убеждал воинов, что нет лучшей доли, чем смерть в бою с врагом, и сам готов был в любую минуту отдать свою жизнь за Родину. Это были не красивые слова. Кошроков не рисовался. А с той минуты, когда он узнал, что Узиза, жена, погибла от бомбы вместе с ребенком, которого носила, он даже нарочно искал гибели. У Сапун-горы под Севастополем он повел в атаку штурмовые группы; каждой вручил красное знамя и приказал водрузить на вершине горы. Одно из них нес сам и надеялся: погибну со знаменем в руке. В этом бою пало много наших бойцов, но Доти остался жив. Он мучился, считая решение судьбы несправедливым. И лишь сейчас, в эту минуту, любуясь танцующей милой девушкой, он впервые с необыкновенной силой почувствовал жажду жизни. Она была столь же неодолима, сколь и его желание умереть под Севастополем.
Зрители бурными аплодисментами вознаградили Апчару и Нарчо за темпераментную пляску. Кто бы мог подумать, что такой шкет, как Нарчо, способен танцевать, словно взрослый джигит! Апчара, счастливая, разгоряченная, вернулась к Кошрокову.
— Великолепно! — наклонился к ней комиссар.
Танцы были в самом разгаре. Аслан снова вышел в круг, желая перещеголять Нарчо. Но пальма первенства осталась за «ординарцем». Он ловил на себе одобрительный взгляд комиссара и завистливые взоры сверстников. Уже опустилась ночь, но сна у гостей не было ни в одном глазу. Еще не оперившиеся юнцы старались продемонстрировать в танце и грацию, и темперамент, и достоинство, и лихость. С парнишками плясали взрослые девушки, смотревшие на них, как на детей. Их женихи в этот миг были где-то далеко на фронте…
Комиссар заметил, что глаза танцовщиц грустны, от этого и ему самому стало грустно. Он думал о трудной судьбе этих девушек, о том, что иные из них так и останутся одинокими, не узнают счастья материнства. А ведь они заслужили это счастье беззаветным трудом, теми жертвами, на которые пошли ради общего дела. Они и дали пример того настоящего самопожертвования, о котором сегодня шла речь… Ни гармоника, ни дружный смех, ни разговоры не прерывали мыслей Кошрокова.
Время близилось к рассвету. Батырбек снова позвал гостей к столу. Кошроков, конечно, слегка жалел, что ему не удалось показать, чем подбит его единственный сапог (раненая нога покоилась в валенке), но не терял надежды когда-нибудь расстаться со своей палкой. Войдя в комнату, он остановился: перед местом, которое занимал тамада, лежала баранья голова.
Почетному гостю, видимо, предстояло разломать ее в соответствии с ритуалом. Со двора доносились шумные возгласы, музыка и голосок Нарчо, захмелевшего от комплиментов.
— Не споют ли девушки? — попросил Кошроков, давно не слышавший народных песен.
— О, у нас есть отменные певицы, — охотно отозвался Аслан. — Я их сейчас позову.
— Как, тамада? — спросил Чоров, полагая, что Цухмар покачает головой: «рано еще». Но старик неожиданно согласился:
— Песня — первая гостья на свадьбе.
— Тогда по одной до песен. Нет возражений? — Чоров наполнил чарки. — Подкрепим силы, да и продрогли мы во дворе. Кому что — говорите: вино, водку, коньяк?
— Наливай, — смеялась Апчара. — Мужчинам коньяк, нам — вино.
И тут заговорила Кураца.
— Если разрешите, я скажу два слова. — Она ни на кого не смотрела и лишь теребила кончик шелкового платка, которым была повязана ее голова. Губы ее дрожали. — Аслан прав. Слово должно быть точным. И мысль, которую оно выражает, тоже пусть будет точной и справедливой. Товарищ Чоров говорил о необходимости жертв, о последнем куске хлеба. Дескать, отдай этот кусок фронтовику, и ты приблизишь час победы. — Кураце было трудно говорить, она и смущалась, и сердилась одновременно, и старалась не выказать давней нелюбви к Чорову. — Мы ли таим кусок хлеба? Видели, кого у нас на заводе мы зовем рабочими? Мальчишек. Девчонок. Стариков. Они и землекопы, и формовщики, и машинисты, и истопники, и экспедиторы, и коногоны. Что они едят? Сколько раз на дню случается с кем-нибудь голодный обморок? Апчара знает — у нас есть навес, куда ставят бутылки. Принесет с собой работница пол-литра молока — сыта, есть силы трудиться целый день. Но нередко они приходят с бутылкой воды. Весной ты, товарищ Чоров, чуть не лишил детей наших работниц молока. А это уже было бы не жертвой во имя фронта, а жестоким безрассудством. Дети должны вырасти, они — будущее народа. А у них живот к позвоночнику присох… — Кураца не выдержала и расплакалась.
— Ну хватит. Ты на свадьбе. Нечего омрачать чужое торжество. — Апчара обняла Курацу за плечи, привлекла к себе. — Ты не на пленуме, не на активе, хотя, впрочем, на пленумах из тебя слова не вытянешь. Все всё поняли. Только одно неясно — за кого ты предлагаешь пить?
— За рабочий коллектив завода! — нашелся Аслан и вышел, вспомнив про обещанных им певиц.
— Что наболело, то и сказала.
Кошроков ничего этого прежде не знал. Он понимал, что и в тылу живется нелегко, но чтобы от голода падали — не представлял себе.
— Да, мы не только кровью солдат завоевываем победу, — мы ее выстрадали всем народом, — задумчиво и печально произнес он. — Долгожданная победа станет лучшим памятником тем, кто за нее погиб, наградой всем, кто пролил кровь, кто трудился ради нее. Я поднимаю чарку за рабочих, колхозников, за ребятишек, чье детство исковеркала война. Вы видели их сейчас, видели Нарчо. Как они хотят казаться взрослыми! Да они и так взрослые — столько пережить… За их мирное, безмятежное будущее!