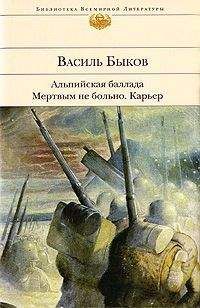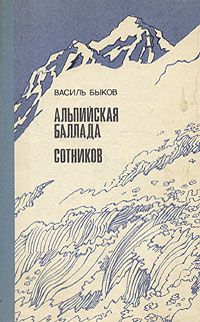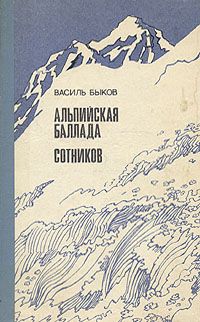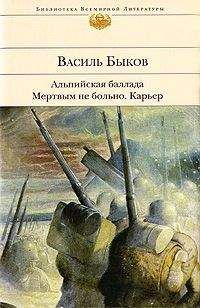как человек и гражданин, безусловно, недобрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой - в этом
все дело.
Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Дёмчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в
желтых перчатках - приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли
последние минуты жизни, и Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя
весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися
фигурами людей, чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной
колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки, ее
проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек
там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем...
Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке; бесцеремонные руки в сизых
обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, намороженные уши, надвинули ее на
голову до подбородка. «Ну вот и все», - отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа
сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу, но теперь ему захотелось
видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором
преобладали женщины и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата - обычный
местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их
безликого множества его внимание остановилось на тонковатой фигурке мальчика лет двенадцати в
низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду,
мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или,
может, от страха, с детской завороженностью на бледном, болезненном личике следя за происходящим
под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось,
чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем
столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся
мальцу - ничего, браток.
Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида
начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и
так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздались команды по-немецки и по-русски, и
вдруг он почувствовал, как, будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце
виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Дёмчиха:
- А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!
Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястнула вверху поперечина арки, сдавленно зарыдала
женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила
внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Дёмчиха, - дико и страшно. Но он заставил себя
сдержаться, лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге: перед концом так
захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей,
наверное, жалкой, вымученной улыбкой.
Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему: чурбан под ногами на
миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз - с искривленного,
220
обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва
расслышал:
- Прости, брат!
- Пошел к черту! - коротко бросил Сотников.
Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот
стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами.
Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе и ближе к нему.
Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.
Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко
скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело.
Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело
провалился в черную, удушливую бездну.
19
Рыбак выпустил подставку и отшатнулся - ноги Сотникова закачались рядом, сбитая ими шапка упала
на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно
раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть
ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги - одну в растоптанном бурке и рядом
вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.
Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти - усилием воли Рыбак
превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и Дёмчихой, болталась налегке пятая
веревка - не дождется ли она его шеи?
Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вытаскивал из-под Дёмчихи желтый
фанерный ящик, убирали из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь
под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа
немцев и штатского начальства возле дома стала редеть - там расходились, разговаривая, закуривая
сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и
даже интересного занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пронесло!
Да, вроде бы пронесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское
оцепление, людям скомандовали разойтись, и женщины, подростки, старухи, ошеломленные и
молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались,
оглядывались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи
наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил
ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как
догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник.
Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза
его при этом оставались настороженно-холодными.
- Гы-гы! Однако молодец! Способный, падла! - с издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил
его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты околел, сволочь!» Но, взглянув
в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся - криво, одними губами.
- А ты думал!
- Правильно! А что там? Подумаешь: бандита жалеть!
«Постой, что это? - не понял Рыбак. - О ком он? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он
стал понимать, что тот имеет в виду, и опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но
он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе - при чем тут он? Разве это он? Он только
выдернул этот обрубок. И то по приказу полиции.
Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув набок головы, с
неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь
по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей, он вообще
старался не глядеть туда - пятая, пустая, петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с
этой виселицы, но никто из полицаев даже не подошел к ней.