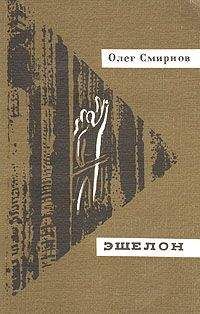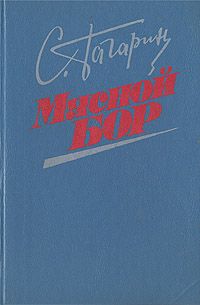— Дедушка Мохрин, испугал ты меня.
— Да кто же это? Не признаю чего-то. Колька, дак опять не Колька.
— Ну какой Колька! Шура я, дочь Михаила Мурзина.
— Лександра, что ли?
— Я самая, дедушка. Александра.
— Лександра, Лександра, — уточнил дед Мохрин и зачмокал губами, не веря и удивляясь встрече. — Откуда же ты, Лександрушка? Ведь тут слух был, будто убили тебя.
— Убивали, дедушка, да ожила.
— А моего с концом припечатали… А может, возьмет да так же и объявится? А?
— Объявится, дедушка. Убивают далеко не всех.
— Не всех?
— Не всех.
— Ну дай тебе господь здоровья. Ты бы зашла в тепло.
— Посижу здесь. Спасибо.
— А теперь-то ты как, по ранению же?
— Ноги у меня отекают.
— Ноги ежели, дак это, не доведи господь, хуже всякого ранению. А Елена, Колькина-то матерь, тоже свово ждет. Сулился вроде домой.
Шура обеспокоенно встала и, загораживаясь от деда Мохрина своим мешком, спросила не сразу:
— Что же он, Николай-то?
— Кто знает, Лександрушка, не пишет. В госпитале он теперь, и лечат его, да никак, видно, не могут вылечить.
— Пойду я, дедушка Мохрин. А ты заходи в гости.
— Я зайду. Я зайду, Лександрушка. Я люблю по гостям шастать. Хорошо примете, так и еще загляну. Памятешку, скажи, совсем отшибло: где угостят, туда и сызнова тянет. Не встречали тебя?
Дед Мохрин проводил Шуру до угла, а потом догадливо смотрел ей вслед. Лямки легкого мешка, по всему видать с бельишком, она закинула за одно плечо и шла с вальяжной женской неловкостью. «Эко зад-то оттягивает — навроде как беременная», — удивился дед Мохрин и вспомнил притомленное, расплывшееся лицо Александры, вспомнил, как прятала она свой живот за мешком, хмыкнул уж совсем определенно.
С год уже будет тому, а может, и больше, так же вот шел с поезда матросик с обтесанными скулами, выпитый добела госпитальным покоем, и пустой рукав нес с левой стороны. Рукав был заправлен под широкий флотский ремень. Постучался матросик к Мохрину в караулку, достал из кармана залитую сургучом бутылку, ударил ее дном о пятку валенка и вышиб пробку. Помнится, в караулке запахло едко-хлебным, настоящей неразведенной водкой. Матросик лил водку в рот, как в воронку, крупно и емко глотал. На донышке деду оставил.
— Катай, старик. Припас я эту скляночку для смелости. А то, боюсь, заплачу. — Матросик вытащил из-за пазухи бескозырку с лентами и якорями, расправил ее на колене, надел, разбойно блестя глазами: — Теперь я при форме, дед. Верно, толкуй?
— А вещички где твои? — поинтересовался дед Мохрин, глядя, как матросик силой запихивает в карман свою шапку-ушанку.
— Все мое хозяйство пошло за бутылку. Невелико было оно, хозяйство. Ножичек еще пошел в придачу. Вот ножичек жалко. Бывай здоров, дед. Бывай здоров. — Матросик осадил бескозырку до самых бровей и вышел. Скошенное плечо у него висело ущербно и мертво.
Дед Мохрин почему-то вспомнил безрукого матросика, когда проводил Шуру Мурзину; и без руки — что же теперь. «Зато Лександрушка-то не проста вернулась. Ах ты, ягодка Лександрушка. Мы, мужики, всю жизнь нашу в солдатиков играем, так бабам всю жизнь порожними и ходить? — Дед Мохрин озабоченно пососал остывшую трубку, скудно плюнул на снег. — М-да, к одной быстро липнет: прошла мимо мужика — и взялась; а другая нет, другой вот через фронт пришлось брать свое. Как ты ее ни суди, бабу, а весь белый свет на ней держится. Через фронт так через фронт».
Дед Мохрин запер караулку на замок, подергал его и пошел домой. Десятка шагов не ступил — идет Елена: в плюшевом жакетике, в новой зеленой юбке, какую дед Мохрин на ней и не видывал, а шаль совеем не по старушечьи повязана, высоко. Одно теперь интересует Елену, с того и начал дед Мохрин:
— Едет все народ, Елена. Едет. А твово пока нету. Жди давай. Жданное-то дороже. Лександра с нашей улицы приехала. Ты, поди, не знавала ее…
— Не Мурзина ли?
— Мурзина.
— Да ты что, дед, ай сам видел?
— Говорил с ней. Вот тут она на скамеечке и сидела.
Елена растерянно и беспокойно мигала своими остолбеневшими вдруг глазами.
— Что же она, дед?
— Да ничего девка. Ноги, жалуется, отекают. Потому, видать, ее и списали. И еще бы навроде…
— О Коле она ничего… Ничего она о Коле не спрашивала?
— Спросила. Как же. Домой, мол, сулится?
— Спрашивала, выходит. Ну слава тебе господи, царица небесная. А он, родимый-то, в кажинном письме о ней пишет. Спрашивает. Да ведь она, погоди-ка, убитая была. Полноте уж, Михей Егорович, ее ли ты видел?
— Ты что, Елена, прицепилась ко мне из-за этой Лександры? Прицепилась ты ко мне, как собачонка к нищему, извиняй на слове.
— Да и то правда, Михей Егорович. Ступай-ка, ступай. Да и я побегу — вон хлеб привезли. Ступай-ка, ступай.
Елену будто на руках несли, не чуя ног, на магазинное крылечко вознеслась. Бабы, пришедшие получать хлеб по карточкам, расступились перед ней. Некоторые даже поздоровались, Елена не слышала — скрипел в ушах сухой, но ласковый голос Мохрина.
Так и работала Елена весь день словно в бреду, оглохшая и ослепшая для окружающего мира. Ей все блазнилась Александра с подвитыми кудряшками, которыми она всегда опахивала все вокруг и от которых веяло сладким одеколоном.
Но Шура к Охватовым ни днем ни вечером не пришла — напрасно томилось в деревянном шкафчике собранное для нее Еленой угощение. Елена из своих скудных запасиков муки и масла напекла блинов, зная, что Шура любит блины немного пригоревшие, когда они ломко хрустят на зубах. До ухода в армию Шура частенько и запросто бывала у Елены, забежала и вечером уже перед самым отъездом, вся в слезах, в армейской шапке, которая плохо держалась на ее рассыпающихся волосах. Шура то и дело снимала шапку, встряхивала своими наодеколоненными кудряшками, вновь надевала ее, улыбаясь сквозь слезы. На улице под окнами пересмеивались подружки ее, и по всему было видно, что Шура нетерпеливо довольна своим отъездом и своими подружками.
После первой беременности Шура отяжелела немножко, округлилась, и Елена, глядя на нее, радовалась за сына, что бог послал ему справную невесту. «Теперь вот в солдатчину-то ей не ходить бы. Ой, не ходить, — томилась Елена, опасаясь. — Кругом одно мужичье, а она бабочка видная — от одних глаз грех понесешь…» Но Шуре ничего не сказала, перекрестила молча и оплакала как родную. И потом, когда бы и сколько бы ни вспоминала Шуру, всегда думала о ней не иначе, как с осуждением. С тем вот и дождалась ее возвращения.
Вечером, прибрав и протопив магазин, Елена не вытерпела и отправилась к Мурзиным сама, убежденная, что Шура не пришла в гости с трудной дороги, а может, и хуже того — нездоровится. «А так разве удержали бы ее?» — рассуждала Елена и прикрывала полой узелок с блинами.
Два окна в квартире Мурзиных ярко светились, заледенелые стекла ломали, крошили свет, вспыхивали блестками, тягуче мигали. Третье окно — Шурина горенка — освещалось изнутри слабо, видимо из общей комнаты была отворена дверь. Елена прошла мимо окон, потом вернулась, чутко высматривая в наледи на стеклах прогалину, через которую можно бы заглянуть внутрь. «Может, гостей созвали, а я здравствуйте к вашему застолью», — тоскливо думала Елена, глядя на бельмастое окно Шуриной горенки. Она уже согласна бы вернуться, да ноги несли ее и несли.
Во дворе дома Мурзиных размещался конный двор горкомхоза, и по-зимнему холодно пахло лошадьми, сеном, навозом. На поднятых оглоблях выпряженных саней качался фонарь, а под ним кто-то темный пешней обкалывал лед у колодца. За санями, в глубине двора, переговаривались.
Подойдя к крыльцу, Елена увидела женщину в ватнике, которая собирала с перил какие-то вымороженные постирушки. Дом большой, жильцов в нем много, и Елена без внимания, опустив голову, стала подниматься на крыльцо.
— Елена, ты навроде?
— Сватья Августа! Эк, свету-то у меня в шарах. Лечу. Здравствуй-ко, сватья Августа. С гостенькой тебя. С возвращением. — И растерялась: не больно ли обрадела? — Шура-то, она, думаю, не больна ли?
— Не ко времени ты, — вздохнула задавленно Августа, не назвав Елену, как прежде, по-родственному сватьей, и опередила ее на пороге сенок. — Ты уж вдругорядь, Елена-матушка. Врач к ней пришел.
— Да что хоть, сватья Августа?
— Скажут вот. Сказать должны. — И, сознавая, что не ответила на вопрос Елены, заколесила, не умея лгать: — Мало ли у нас, у баб. Не болезнь, да хуже хвори. Ну врач вот…
— Сватья Августа, ведь она, Шypa-то, обрадуется, что я пришла. Я вот ей блинчиков… — Августа хотела что-то сказать, по Елена не дала и слова вымолвить. — Из одних местов они. Шура с ранеными, а мой-то опять раненый. Уж хоть немножечко-то знает же она. Я, сватья, одним глазочком… Уж как она, бывало, поглядит, сватья Августа, уж поглядит как, ну ровно вот Колюшкин взгляд. А съездила-то она…