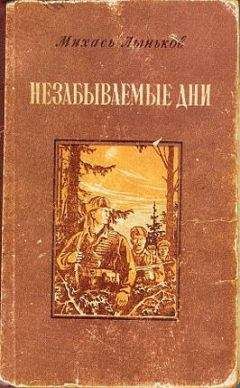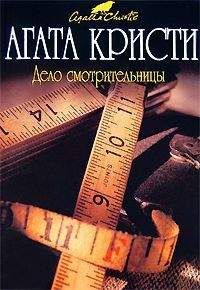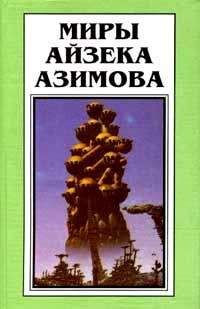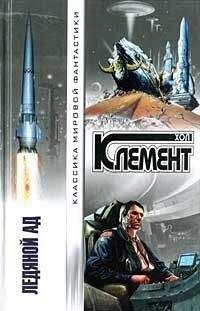— В лес? Там теперь зверю страшно.
— Беги в деревню, к людям.
Он посмотрел на нее с удивлением и растерянно усмехнулся, хмыкнул. Она поняла.
— Тогда подавайся куда-нибудь в другой город, надо затеряться среди людей, никто не узнает…
— Немцы всюду… — снова растерянно произнес он. И вдруг встрепенулся, как тонущий, который почувствовал под ногами твердую почву.
— Я пойду к Коху. Он знает, как я служил, без обмана служил.
— Люди говорят, что Коха убили.
— Этого не может быть.
— Все может быть в наше время. Люди говорят, сегодня нашли его за угольным складом.
— Все равно пойду… В гестапо пойду. Там должны знать, где я был последние дни.
Женщина молча сунула ему в руки приказ коменданта, расклеенный по всему городу. Это было распоряжение о повешении полицейских, о чем Слимак уже знал из газеты. Но тут Слимак обнаружил еще некоторые пункты, о которых раньше ему не было известно. Здесь перечислялись фамилии полицаев, которые заочно приговариваются к смертной казни как бежавшие от ареста. Среди них Слимак прочел и свое имя…
Последние надежды, смутно теплившиеся в сердце Слимака, бесследно рассеялись. Он сидел, тупо уставившись в какую-то точку на стене, и о чем-то думал, разминал палицами распухшую мочку уха.
— Тогда съешь хоть что-нибудь, — нерешительно предложила жена, ставя на край печи огарок.
— Не надо.
— Что не надо? Ты погляди, на кого ты похож стал. Ты ходячая смерть, тобой людей можно пугать.
— Смерть! — Он посмотрел на жену, и в его взгляде блеснули на миг колючие злобные огоньки. — Ты смертью меня пугаешь? Если бы не ты, может, я и теперь был бы как все люди.
— Ты и а людей не равняйся, каждый должен иметь свой ум и суметь свою жизнь так наладить, чтобы не ты, а тебя люди боялись.
— Брось!
— Что брось? Я спрашиваю, что же делать будешь? Думать надо!
— Отвяжись!
Жена ломала руки и тихо скулила, как в темную и ненастную осеннюю ночь скулят бездомные псы на мокрых пустырях.
Слимак сидел за столом и силился придумать какой-нибудь выход из темной могилы, в которую он угодил. Но мысли были такие тяжелые и неповоротливые, как мельничные жернова: еле повернутся и снова становятся на свое место. Трудно и непривычно было думать Слимаку. Так и просидел он неподвижно до самого утра. Уже светало, уже виден был в доме страшный беспорядок, грязь, когда раздался сильный стук в дверь. Слышны были голоса немцев.
Соскочив с кровати, женщина лихорадочно открыла дверцу в погреб, торопливо бросила туда несколько узлов, подхватила Слимака под руки, насильно подняла его с лавки.
— Лезь скорее, лезь, — немцы!
Он не слез, а скатился по скользким ступенькам, больно ушиб колено. Стало темно. Что-то зашуршало над головой, — повидимому, дверь в погреб застлали дерюгой. Сидел окаменевший, прислушивался. Пахло сыростью, цвелью. Вверху громыхали двери, слышен был топот ног. Со двора донесся визг свиней, причитания жены. На миг стало тише. И снова над головой послышался нестерпимый грохот, пронзительный женский крик.
— Паночки, дорогие, не забирайте всего! Это не его, а мое имущество!
Наверху затопали, словно собирались открыть дверь в погреб. Посыпалась всякая труха, звякнуло железное кольцо.
Торопясь, Слимак снял с брюк ремень, накинул его на взмокшую шею и, нащупав отсыревший крюк на стене, прикрепил к нему петлю. Пошатнулся в сторону, было низко, неудобно. Упал на колени, выпрямил затекшие ноги. Ремень больно прищемил дряблую кожу на шее, посыпались искры из глаз. Хотел подтянуться, поправить. Ушибленное колено не слушалось. Уперся другой ногой, но она на чем-то поскользнулась.
«Боже мой, ведь это гнилая картошка!»
Это была его последняя мысль.
Перед глазами поплыли желтые огни. Потом они почему-то стали синими-синими, как волчьи глаза ночью.
И их не стало.
Утром того дня, когда на болотном островке расположились люди Василия Ивановича, состоялось первое заседание обкома. Было оно коротким, немногословным. И когда Василий Иванович сказал, что открывается заседание не просто обкома, а подпольного обкома, все как-то подтянулись, лица стали строже. Каждый из них почувствовал, осознал, что начинается новая жизнь. Сразу многое из того, что волновало и связывало с прежней жизнью, отошло на задний план, стало второстепенным, минувшим.
— Я даю вам две недели. За этот срок проведем во всех районах собрания коммунистов, выявим все существующие партизанские группы и отряды, подготовим почву для организации новых отрядов. Народ выступает против захватчиков. Так поможем ему сплотиться в великую непобедимую силу. И, чтобы добиться этого, надо, чтобы каждый наш человек знал о призыве Сталина.
На этом Василий Иванович закончил свою речь. Все еще раз проверили свои маршруты, воскресили в памяти имена людей, с которыми, возможно, придется встретиться. Проверили собранные сведения о ближайших районах, уточнили формы связи, назначили сборный пункт. Сделав последние напутствия и напомнив еще раз о бдительности, Василий Иванович критическим глазом оглядел обувь и одежду товарищей. Потом, приставив ко лбу ладонь козырьком, посмотрел на солнце — оно поднималось над верхушками деревьев высокое, ясное, предвещая хорошую погоду.
— Что ж, товарищи, пора. Пожелаю вам счастливого пути!
Попрощались. Все смотрели ему прямо в глаза, и казалось, что во взгляде у каждого искрилась одна и та же мысль:
«Будьте спокойны, Василий Иванович, все будет в порядке, будет все хорошо, глядите только себя поберегите…»
— Идите, идите, братцы!
Словно боясь нарушить торжественную минуту расставания, люди уходили молча, сосредоточенные. Минута, другая — и за ближайшей сосной скрылись фигуры людей, с которыми он делил все опасности и невзгоды долгого пути, приведшего их на этот болотный островок. Уже не слышно шагов, а ушедшие товарищи все стояли перед глазами Василия Ивановича: и неизменный весельчак и балагур Гудима, и задумчивый Слышеня, и стеснительный с виду Бохан, и непоседливый Ельский.
Василий Иванович долго глядел им вслед, потом молча прошелся по лесу, внимательно осматривая каждый закоулок, каждое деревцо. Подошел к очажку, у которого возился шофер.
— Хорошо у нас, Федя! — сказал ему Василий Иванович, чтобы как-нибудь рассеять грустную тишину, наступившую после ухода товарищей.
Шофер взглянул на него исподлобья и принялся так усердно протирать песком котелок, что тот жалобно задребезжал в его руках.
«Переживает…» — усмехнувшись б усы, подумал Василий Иванович.
— А что хорошего? — наконец, отозвался шофер, обычно не торопившийся с ответом, когда бывал чем-нибудь недоволен. — Остались одни, как волки в лесу.
— Зато видишь, какая красота кругом! И лес, и вода, и солнце, и, как ты говоришь, озона не продохнешь.
— Насчет озона — это вы верно сказали. А вот если красота такая, да без людей, то грош ей цена: она меня тогда нисколько не трогает. Какой мне интерес в этой красоте, если не с кем слова вымолвить? А поскольку я человек, должен я с людьми дело иметь. Неправда ли? А тут от этого лягушечьего хора со скуки позеленеешь, чтоб они околели… — И он с такой злостью швырнул в сторону речушки горсть песка, что сорока, сидевшая на ольхе и с любопытством следившая за всем происходящим, застрекотала что-то невразумительное и с перепугу метнулась в сторону.
— Что-то ты не в настроении, Дудик!
— А что Дудик? Как ехать на задание — Падудик! Как на дежурство — Дудик! Как посылать к людям — Падудик! А с комарами тут воевать — Дудик! И выходит оно на поверку: нету мне никакого хода из-за этого Падудика.
Василий Иванович рассмеялся.
— Вот-вот, вам это — смех, вам это — хаханьки, вас это, конечно, мало трогает.
— А чтоб вы скисли, в конце концов! Нашли время сводить счеты друг с другом.
Только сейчас Василий Иванович понял причину дурного настроения Феди. Дудик был недоволен тем, что другого шофера, Падудика, послали вчера с работниками обкома, а он, Дудик, остался здесь. Частичное сходство их фамилий приводило порой к комичным недоразумениям, а самим шоферам доставляло подчас неприятности. Не всегда упомнишь, кто из них Дудик, а кто Падудик, и кто из них водитель, а кто механик, — рангом, так сказать, выше. Но сами шоферы, невзирая на некоторую разницу в летах и в профессиональной иерархии, были закадычными друзьями и в обиду посторонним не давались. Они оба и напросились в эту поездку и были всегда неразлучны.
— Вот что, Дудик, о людях ты хорошо сказал. Много их, людей, вокруг нас — целый народ, понимаешь, на-а-род. И как красоте твоей, по твоим словам, грош цена без людей, так и нам с тобой без людей, без народа тоже грош цена.