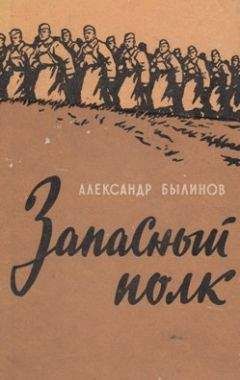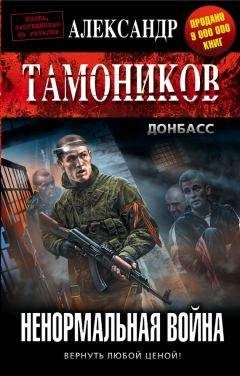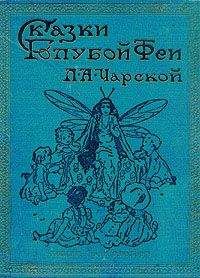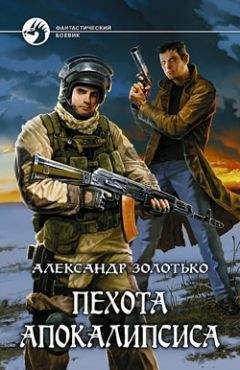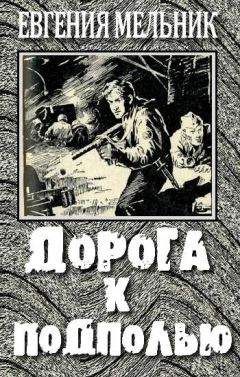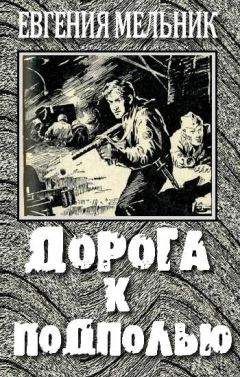Мельник шел гулким плацем. Здесь обычно происходили торжественные церемонии, гремели полковые митинги. С этой наспех сколоченной трибуны, обтянутой кумачом, нередко и сам он произносил речи, провожая на фронт маршевиков.
У распахнутых дверей продовольственного склада стоял заведующий — пожилой солдат Немец. Странная эта фамилия служила часто поводом для острот, но самого его не смущала нисколько. «Немец так немец, — говаривал он. — Абы не фашист».
Он приветствовал командира полка, неловко козырнув, а Мельник протянул ему руку и вошел в помещение. Здесь пахло хлебом и мясом. Мешки и ящики громоздились до потолка, медно-желтые коробки «второго фронта», как называли бойцы американскую тушенку, стеной стояли в углу. Буханки свежего темного хлеба, сложенные в штабеля, возвышались у весов.
— Ну что, Немец? — спросил майор, рассеянно просматривая лежавшие засаленные накладные. — Что скажешь? Кормишь?
— Кормлю, товарищ майор. Наше дело такое. С вечера до утра, с утра до вечера... Котлы кипят.
— Кипят?
— Так точно, товарищ майор.
Кто-то заглянул в дверь, но, увидев майора, тут же исчез.
— А ведь я уже ушел от вас, — вдруг сказал Мельник. — Уехал. — И он звонко щелкнул костяшкой счетов.
— Каждый поедет, товарищ майор, коли потребуется, когда команда будет. Что же с того? — подчеркнуто равнодушно проговорил Немец, и Мельник был благодарен ему за то, что тот не выражает сочувствия. Завскладом был, пожалуй, ровесник майора. Нестроевик, он с первых дней окопался в этом складе, вел дела аккуратно, все у него выходило в ажуре, остатков не обнаруживалось. Немец, несомненно, знал о том, что произошло в полку (он все знал раньше других), но виду не подавал: «Ничего, мол, особенного. Как я вас уважал, так и уважаю. Каждого из нас, даже меня, можно снять, если придраться. Пусть они не думают, что в этом «снять - назначить» весь смысл жизни».
Лесок, синеватой тучкой набегавший на лагерь с востока, встретил прохладной дремой и как бы звал вглубь, подальше от людей. Он был полон тонких запахов перегноя, свежей хвои. Воздух был влажным и терпким. Иван Кузьмич шагал меж деревьев, прислушиваясь к шорохам, к щебетанию птиц. Ветви опускались над ним, ласково трогали лицо, оставляя влажные следы. Все здесь было ново, незнакомо. И он подумал, что вот ведь ни разу за все время не был здесь. А жаль! Отличное место для раздумья!
Впрочем, неплохо бы этот лесок приспособить для боевой учебы подразделений. Отличный рельеф. Вон вдалеке небольшая ложбина, покрытая густым кустарником, левее — густой сосняк. Деревья затрудняют обзор местности, а если слева дать фланкирующий огонь пулемета, наступающим трудно придется, не один ляжет на пути к «вражеским» окопам.
Майор усмехнулся. Не слишком ли запоздал, стратег? Надо было раньше с протоптанной стежки шарахнуться в незнакомые леса и долы, от учебного плаца, от надоевшей высотки, прочь к неизведанным рельефам, к неожиданным, «заминированным», обработанным «вражеской» артиллерией местам.
Солнце пробивалось сквозь густую листву. В лесу стоял холодок, словно в сырой комнате. Опушка уже отливала желтизной. Казалось, что само солнце смелой кистью лучей мазнуло по деревьям да так и застыло на них до самого снега.
А ведь не замечал он природы, не замечал, хотя всегда был с ней и даже в ней. В молодости исходил тысячи верст, ступал по горячей земле, по луговым цветам и клеверу, по сгнившим прошлогодним листьям, падал камнем в пахучие травы, в разноцветье летних оврагов, переползал, вдыхая запахи чебреца, подорожника, мяты, взрыхленного чернозема, жевал щавель, заглушая жажду, применялся к местности, изучал земную красу, как удобный или неудобный, выгодный или невыгодный рельеф местности, рубеж для атаки или обороны, а реки представлялись ему естественными преградами или водными рубежами. Он не увлекался ни рыболовством, ни охотой, как многие его сослуживцы.
В мирное время полк жил «благонадежно». Майор командовал без особого напряжения. Он отлично знал весь церемониал смотров и поверок. Наезжих поверяющих не терпел: «Послужи с мое...» Как-то попал в числе других на зубок начальнику политуправления округа («Командир полка отстает, не учится, не постигает...»). Собственным брюхом «постигал» он опыт на полях да на буераках. Повертись день-деньской по казармам да конюшням, поставь по команде «Смирно» с десяток старшин да взводных, втемяшь им понимание, что есть военная служба, — тогда заговоришь ли еще о новых требованиях и методах! Требования, может быть, новые, а служба старая...
В июле сорок первого формировал запасный полк. Пусть где-то поначалу сбился с ноги, стушевался, не стал героем, потому что не привык отступать, прятаться от врага, хоронить павших. Но, видит бог, полк выравнялся.
И если случались прорехи, подобные той, которая нынче сокрушила, так у кого же их не бывает? Но тут же возражал себе: «Не лги, сам отпросился, сам решил. Все взял на себя. Чтобы не краснеть перед внуками, даст еще бог. А то ведь и впрямь — война кончится, а он и фронта не увидит».
Поэтому, когда на днях вызвал его Беляев и со смущенной улыбкой, усадив на диван, сказал, что приказ еще можно «отставить», Мельник покачал головой и, вставая, ответил:
— Никак нет, полковник. Не испытывай. Твердо решено. Каждый день мне в тягость.
— Не обижаетесь? — спросил Беляев,
— Нисколько.
Беляев протянул руку.
— Когда пожалуешь? — спросил Мельник.
— Провожать придем.
На том и порешили. Но позднее, когда оставался один, накатывало раздумье.
И ныне прелесть раннего утра и осеннего леса не спасала от тяжелых мыслей. Хорошо бы не показываться больше! Превратиться в зверушку и скрыться в густой траве, в потайных норах у мшистых пеньков. Ни тебе полка, ни роты, ушедшей на фронт, ни Борского, ни Беляева, никого, кто напоминал бы о прошлом, о путях и дорогах, пройденных не так и не там. За деревьями буйствует жаркий полковой день. Он уже не твой. Имя твое в военных списках, и где тебя ждут — неизвестно.
И вдруг с тоской подумал, что ничего ему уже не жаль здесь. Вчерашнее близкое стало вдруг отчужденным и даже враждебным. Будто не его усилиями стаскивалось все в эти склады, конюшни, палатки, стеллажи, стрельбища, по гвоздику, по дощечке. Только один островок в этом песчаном безбрежье звал трепетным голосом. Семья — Аннушка, Наташа...
Перед войной они должны были пожениться — Наташка и Алик, черноволосый студент пятого курса. Где-то они повстречались, то ли на вечеринке, то ли на именинах. Он приходил ежевечерне, исчезал только перед сессией, когда он и Наташка, каждый в отдельности, сидели за книгами. Он готовился стать инженером по прокатному делу, а она — преподавательницей физики. Мельник и Аннушка с теплотой наблюдали за крепнущей дружбой молодых: майору обещали квартиру в этом городе, где необычно долго задержался, одна комната предназначалась для новобрачных.
Погиб Алик под Перемышлем.
Наташа чуть постарела, глаза затаили непроходящую печаль, слишком заметную близким. Дорога на восток да месяцы неустроенной жизни в новых местах; морозный Бугуруслан с розовыми столбиками дымков, застывших в безветренном воздухе; татарская деревня Асекеево с чистотой горниц и смешными домашними козочками у хозяев; снежные просторы русской равнины, слепящей глаз; кое-какая полковая работенка, к которой приспособилась; чужая беда, напоминавшая собственную; похоронки да невеселые сводки радио; и люди, люди, люди, приходившие и уезжавшие на далекий фронт, — все это как-то скрадывало, выветривало горе.
Майору казалось, что дочь выздоравливает. Господи, да если вдуматься, разве она одна пережила горе в эти грозные дни? Придет еще ее праздник, дай только срок.
Он уже шел знакомой дорогой домой.
Художник Савчук, с удивительно некрасивым лицом, словно природе было некогда поработать над этим человеческим экземпляром, приложил руку к пилотке.
— В столовую, что ли? — спросил Мельник.
— Так точно, товарищ майор.
— Значит, рисуем?
— Рисуем, товарищ майор.
— Материала хватает или надо съездить?
— Надо бы съездить, товарищ командир полка. В округе обещали красочками помочь.
Лукавая улыбка на лице художника. Майор знал слабости своих людей. Зазноба у этого паренька в Чкалове, часто просится художник в командировки — то краски достать, то холст, то масло... Но теперь майор никакого отношения не имеет к командировкам этого некрасивого, но симпатичного юноши.
— Все рисуешь, Савчук, а командира полка на прощание забыл запечатлеть. Уезжаю я от вас.
— Слышал, товарищ майор. Я, между прочим, хотел предложить, только боязно было. А теперь, если разрешите...
— Теперь нового комбрига рисуй. Он тебя допустит — фигура солидная.
— Так точно, — ответил Савчук. — Он делов наделал. Артиллерийский вал такой организовал — страшно смотреть. Через него, наверно, ни дня ни ночи — все рисую.