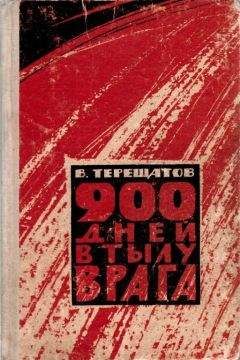А теперь я продолжу свои воспоминания о трагических событиях тех дней под Уманью, какими я их тогда видел и помню до сих пор.
Вскоре после вражеского окружения под Уманью в соединениях и частях обеих армий, основательно поредевших в полуторамесячных боях с отступлениями от советско-польской границы, не стало горючего для танков и автомобилей. С болью в сердце мы видели, как огромная наша колонна автомашин, многие из которых везли раненых, стояли без горючего на приколе. По той же причине танки врывались в землю и превращались в противотанковые орудия. А через некоторое время, расстреляв боезапас, потеряли и эту последнюю боевую возможность. Кончились снаряды у артиллеристов, мины — у минометчиков. Экипажи танков, артиллерийские расчеты, минометчики, водители автомобилей шли в бой пехотинцами.
Несмотря на тяжесть боев, трудности окружения, настроение наших воинов было боевым, именно такое, как об этом сообщал генерал Понеделин командующему фронтом в своей телеграмме перед последним штурмом. Командиры и политработники находились в боевых порядках своих подразделений, показывали личный пример в схватках с врагом. А когда появлялись свободные минуты, они рассказывали нам о примерах храбрости, находчивости и героизма воинов окруженной группировки, о том, как героически уже месяц защищают Киев советские воины. Они читали нам сводки Совинформбюро, фронтовые и центральные газеты, сбрасываемые по ночам с самолетов бесстрашными советскими летчиками вместе с сухарями, консервами, медикаментами и перевязочными средствами для раненых.
Помню, во фронтовой газете мы прочитали стихотворение, в котором был метко выражен патриотический порыв всех воинов, сражавшихся тогда под Уманью. Я уже не помню названия этого стихотворения и кто был его автором, но до сих пор запомнились четыре строчки из него:
«Народ и армия едины,
Родина, как жизнь, нам дорога!
У ворот столицы Украины
Выроем могилу для врага!»
Хорошо помню последний день этой битвы в середине августа. Из частей нашей дивизии был сформирован всего батальон, в который вошли лишь два взвода, укомплектованные из остатков нашего отдельного саперного батальона. Запасы продовольствия закончились. В тот день нам выдали по четыре початка вареной кукурузы, собранной на колхозном поле близ села Подвысокое.
Вечером того дня остатки 6-й и 12-й армий начали прорыв кольца окружения. Сводный батальон, сформированный из 80-й стрелковой дивизии, составил отряд прикрытия основных сил группировки, в него вошла наша саперная рота из двух взводов, укомплектованная на базе остатков нашего отдельного саперного батальона.
Лишь на рассвете основные силы нашей окруженной группировки прорвались через кольцо вражеского окружения, но многим частям, в том числе и нашему отряду прикрытия, вырваться из окружения не удалось. Я помню, как нас стали обстреливать вражеские артиллерия и минометы, а чуть позднее стали слышны пулеметные очереди. Вдруг я услышал около себя стон — это был ранен командир нашей сводной роты саперов лейтенант Михальченко. Двое санитаров из нашей роты начали его перевязывать, положили на носилки, еще днем сооруженные ими из плащ-палатки и нескольких тонких жердочек, вырубленных в дубраве.
— Вперед! Только вперед! — кричал наш командир сводного батальона. Это была последняя команда, которую я слышал… Что со мной случилось дальше, не скажешь лучше, чем в знаменитом стихотворении Александра Твардовского:
«Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки. Точно в пропасть обрыва…»
…Открыв глаза, я увидел на высоте полутора метров потолок — соломенный настил на тонких жердях. Справа на меня падал слабый свет. С трудом повернул голову, увидел маленькое оконце. Почуяв запах воздуха, я понял, что нахожусь в овчарне. Было удивительно тихо. Я никак не мог вспомнить, как и когда я сюда попал. Сделал попытку привстать, но руки и ноги не слушались меня, голову тоже не смог приподнять. Начал напрягать память. Вспомнил: стон и приказ раненого командира роты Михальченко, санитары перевязывали, положили на носилки… Крик комбата: «Вперед! Только вперед!». Сильный минометный обстрел… Упал… Перед глазами какое-то строение… значит, я ранен. — мелькнула мысль. Но где я нахожусь? И с ужасом подумал: в плену.
Меня страшно мучила жажда. То ли я вслух просил пить или это совпадение, но вдруг мои губы почувствовали прикосновение чего-то влажного. Открыл глаза и увидел бутылку с молоком в маленькой детской руке. Молоко разливалось по щекам и подбородку. Я стал глотать, пока не утолил жажду. Я рассмотрел девочку лет десяти, склонившуюся надо мной. Она что-то говорила мне, но я не слышал ее слов. Только теперь я понял, что оглушен и контужен. Она, видимо, догадалась, что ее не слышу, показала рукой, что скоро вернется, и ушла.
Через некоторое время сильные мужские руки подняли мою голову, потрогали грудь, руки. Испугавшись неожиданного прикосновения, я с испугом открыл глаза и увидел склонившегося надо мной улыбающегося, еще крепкого старика с длинными седыми усами, в белой украинской сорочке с вышитым воротником. Он тщательно меня осмотрел: перевернул с боку на бок, снял с меня сапоги, согнул в коленях сначала одну, потом другую ноги. Обул сапоги, сунул мне под мышку холодный термометр. Через несколько минут вытащил его, посмотрел, и поднятым передо мной большим пальцем правой руки дал мне понять, что температура у меня нормальная. Похлопав меня по плечу; жестом показал, что уходит. Через некоторое время вернулся. Начал давать мне с ложки густую сладковато-горькую массу, Я с трудом проглотил несколько ложек. Потом он взял мою правую руку и приложил ее к чему-то холодному, лежащему рядом со мной. Я не сразу догадался, что это мой карабин. И только когда нащупал затвор и прицел, потом приклад, я обрадовался, сообразил: раз мое оружие при мне, то я не в плену, а меня прячут здесь от врагов добрые заботливые люди.
— Спасибо. — Прошептал я своему доброму врачевателю. Он вскоре ушел, жестом попрощавшись со мной. А я быстро заснул. Проспал всю ночь. Проснулся от солнечного луча, падающего из оконца на мое лицо. Догадался, что уже утро. Правая рука, вяло подчинившись, дотронулась до лежащего рядом карабина. Левая рука сильно болела от плеча и до кисти и не поднималась. Сильная боль чувствовалась в груди, пояснице, в коленях. Гладя правой рукой карабин, вдруг прикоснулся к чему-то, завернутому в тряпку. Под ней оказалась глиняная миска, а в ней какие-то влажные, еще теплые комочки. Это были вкусные украинские галушки, сдобренные сметаной. Как кстати!
Днем ко мне подошла та же девочка, но уже не одна, а с хлопчиком ее возраста, конопатым, с давно нестриженными каштановыми волосами. Девочка держала перед моими глазами тетрадный листок, на котором крупными буквами было старательно выведено:
«Дид Микита казав, що вылечит вас травами з мэдом. Меня звать Оксана, а хлопчика — Иванко».
Когда прочитал, у меня на щеках появились слезы радости. Оксана накормила меня вкусными коржами, напоила молоком. Иванко подложил мне под голову свежей соломы, чтобы было удобнее, поправил на мне домотканое покрывало. Попрощавшись, жестикулируя, они ушли.
Перед вечером пришел дед Микита. Он опять дал мне несколько ложек того же лекарства. Показал мне свои ладони с растопыренными пальцами, хитровато улыбнувшись. Как я догадался, это означало, что через десяток дней я поднимусь на ноги. Приветливо улыбнувшись, дед Микита ушел. Потом они ежедневно появлялись: Оксана и Иванко утром, а дед Микита — вечером.
Мне почему-то представлялось, что в овчарне я лежу один. Примерно через неделю я смог сесть и осмотреться вокруг. Немало удивился, когда увидел, что весь овчарник был заполнен ранеными. Их было около тридцати. Все лежали, сидячих на соломе не было, не было и бродивших по овчарне. Тогда же я в первый раз увидел, что местные ребятишки навещали раненых. С десяток хлопчиков и девочек гурьбой вошло в овчарню с кузовками или с узелками. Они сразу разошлись по одному к раненым, стали кормить их супом, кашами, а потом молоком или домашним компотом.
Прогноз деда Микиты был не совсем точным. Лишь на двадцатый день я смог встать на ноги и немного постоять, опершись на палку, принесенную мне Иванком. А еще через две недели я стал передвигаться по овчарнику. Дед Микита, как настоящий чародей, поставил на ноги меня и многих других раненых и контуженных воинов, подобранных местными жителями с поля боя. Как я потом узнал, он по профессии — ветеринарный врач, а в хуторе заслуженно считался и людским лекарем.
Прошло еще какое-то время, я стал уверенно передвигаться по овчарнику, и что было не менее радостным — ко мне уверенно возвращался слух. От Оксаны и Иванка, да и от деда Микиты я узнал, что в этот овчарник на опушке небольшой дубравы рядом с хутором из десяти хат раненых и контуженных воинов перенесли хуторяне. Хутор и дубрава были на удалении от шоссейной дороги, видимо, поэтому или не были замечены, или не привлекли внимание оккупантов. После того, как стих последний бой, фашисты устремились за отступившими советскими войсками. Дед Микита, увидев убитых и раненых на недавнем поле боя, обратился к хуторянам: