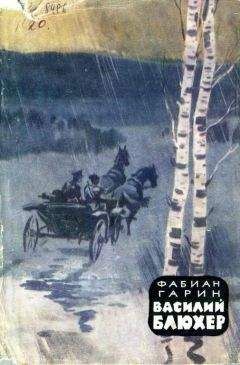Однажды он услышал стук в стенку, прислушался, но не ответил. На другой день стук повторился, и ему показалось, что рядом в камере — Ковалев. Стук повторялся много раз, а потом неожиданно прекратился. Василий не знал о тюремной азбуке, с помощью которой политические заключенные перестукиваются. Тщетно он ждал стука, который мог внести какое-то разнообразие в тоскливую жизнь. Тогда он сам стал колотить в стенку кулаком, но ему никто не ответил.
Василий давно потерял счет времени. В первые дни он говорил с утра: «Сегодня среда» или «Сегодня суббота», но это механическое повторение изо дня в день сбило его со счета. Теперь он больше думал о том дне, когда выйдет на волю. Найдет ли работу в Москве? Ведь его имя, очевидно, и здесь внесено в черную книгу. Куда же податься: в Самару или в Нижний Новгород?
На прогулках в тюремном дворе он безмолвно шагал по кругу, присматриваясь к лицам других заключенных. Нет, он никого не знал. Поди угадай, кто политический, кто уголовный! Мучительно хотелось услышать теплый человеческий голос. Долго ли ему еще сидеть в одиночной камере? Одна надежда на революцию. Но когда она грянет? Он ведь не знал борьбы политических партий, ни с кем не был связан, не знал, что творится за тюремной оградой.
Шли недели, казавшиеся месяцами, шли месяцы, которые тянулись словно годы, и боевой пыл, которым он так заразился на заводе Берда и в Мытищах, стал угасать. Сознание притупилось, он перестал думать о будущем. Учебники проштудировал несколько раз и знал, на какой странице что написано, но пользы от науки теперь не чувствовал.
Как ни высоки тюремные стены, но в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года в камеры залетела весточка с воли — Германия и Австрия начали войну с Россией. Тюремщик, занеся еду, поставил ее на стол и сказал:
— Что-то теперь будет? Кругом война, все подрались.
— Тебе, живоглоту, бояться нечего, — осклабился Василий, — будешь нас стеречь, чтоб не убежали. Мужику — вот кому достанется.
— Помалкивай, арестант! — пригрозил увесистым кулаком тюремщик и пошел к дверям, позвякивая связкой ключей.
— Ты меня не пугай, не то я тебе врежу в поганую рожу — все зубы подберешь с пола.
Тюремный срок Василия подходил к концу, а он, сбившись со счета, решил, что ему оставалось еще сидеть по меньшей мере до весны будущего года. Как же он был удивлен и даже напуган, когда в камеру вошел надзиратель в сопровождении тюремщика и, приподняв правую бровь для пущей грозности, при казал:
— Арестант сто семьдесят два, собирайся!
— Совсем? — оторопел Василий. — На волю?
— Совсем, — ответил надзиратель, — но не на волю. Тебя отвезут в воинское присутствие.
Василию не ясно было, куда и зачем его повезут, и он наивно спросил:
— Книжки с собой взять можно?
— Не понадобятся! Повезут тебя в воинское присутствие, а оттуда одна дорога — на фронт.
Василия зачислили крестоносцем — так называли с издевкой ратников первого разряда. После месячной подготовки в запасном батальоне его в числе других обмундировали, привезли на Брянский вокзал, погрузили в вагон и отправили на Юго-Западный фронт.
Спустя неделю 19-й Костромской полк, входивший в 5-ю дивизию, столкнулся с противником, и за отвагу в бою Василия наградили первой георгиевской медалью.
Василий пришелся Анисиму Кривочубу по душе: и руки золотые, и человек понятливый, и рабочие относятся к нему с уважением. На завод приходил раньше других, снимал шинель, вешал ее аккуратно на гвоздь. Солдатская рубаха на нем всегда чистая. Засучит рукава, наденет на себя фартук, протрет тряпкой станок — и за работу. Недавно вот что приключилось. Слышит Василий, как слесарь говорит двум молодым рабочим:
— Вам, горчичникам, не на заводе работать, а в мусорной яме копаться.
Василий знал, что на Волге этим обидным словом называют городских бедняков, ремесленников. Обернулся он к слесарю и строго, но сдержанно предупредил:
— Пока я здесь работаю, никого не позволю обижать. Заруби себе на носу!
Слесарь ничего не ответил, но с того времени никто больше не произносил этого слова. Рабочих поражала сдержанность Василия и в то же время его вежливость, язык интеллигентного человека и мужественность солдата. Они обращались к нему только по имени и отчеству.
— Рабочий рабочему рознь, — учил его Кривочуб. — Ты теперь вольная птица, а другие здесь спасаются от окопов. Не ровен час, когда какой-нибудь подлиза сболтнет про тебя хозяину.
— Чего мне бояться? — возразил Василий. — Смерть не раз заглядывала в мои глаза, и то не дрогнул, а перед пожарником (так втихомолку называли Остермана) — подавно.
— Это тебе все равно, а мне урон.
— Какой?
Анисим хлебнул из чашки глоток чаю, — он был в гостях у Василия, — распрямил согнутую спину и медленно произнес:
— Я твою жизнь теперь, можно сказать, вижу сквозь стекло. Черный ты человек для питерской и московской полиции, с Бутыркой дружил без малого три года, вернулся с фронта покалеченный, науку любишь, с Нагорным теоремы решаете. А место-то свое в жизни найти не можешь.
— Могу, — возразил Василий, — у Клавдии Капитоновны я временный жилец. Через месяц-другой найду себе комнатенку и перееду. Слесарно-механическое дело люблю, жаль только, что изготовляем не тот товар.
— Не маленький, а говоришь пустое. Разве с Нагорным только теоремы решаете? Пора тебе, Василий, с партией сдружиться.
— Давно хочу, да не с кем посоветоваться. А сам то ты в какой партии?
Кривочуб не спеша отпил из блюдца остывший чай и в свою очередь спросил:
— Видел казанский герб на нашей заводской вывеске?
— Не присматривался.
— Присмотрись! На нем белое поле, а на том поле черный змей с красными крыльями под золотой короной.
— Ну и шут с ним. — махнул рукой Василий.
— Неспроста спросил. Ведь я сам казанский, сорок лет прожил в городе. Вот какую сказку мне в детстве мать рассказала. В древности одна бедная женщина пошла к Казанке по воду. Черпает это она и бранит сарайского Казан-хана, того самого, что город основал, — дескать, о воде не подумал. Рассказали об этом татарскому хану Али-Бею. Тот приказал позвать женщину во дворец.
«Ты чем недовольна?» — спросил хан. «Тебе слуги приносят воду, — ответила она, — и ты не знаешь, как трудно беременным женщинам подниматься в гору с водой. Вот у устья Казанки, где стоят пчельники моего отца, хорошие места. Я помню их с детства». — «Но там водятся змеи», — сказал хан. «Колдуны твои могли бы их уничтожить».
Хан прислушался к совету женщины, — продолжал рассказывать Анисим, — и приказал своему сыну с двумя вельможами и ста воинами отправиться к устью Казанки. Перед уходом он дал вельможам запечатанное своей печатью письмо и наказал: «Если найдете такое хорошее место, как говорила женщина, вскройте письмо и прочтите мое повеление». Так они и сделали. В письме хан повелел бросить жребий и того, кто вытянет его, зарыть живым в землю. Жребий пал на ханского сына, но вельможи скрыли от него и закопали живьем собаку. После этого хан послал своих колдунов извести змей. С осени стали свозить доски, бревна и смолу, зажгли большой костер. Все змеи погибли, только одному удалось спастись. То был крылатый двуглавый дракон. Улетел он на близлежащую гору. Ее за это и по сей день зовут Зилантовой, а по-татарски Джилан-тау — змеиная гора. В память этого события хан повелел сделать изображение дракона гербом Казани.
Василий с интересом выслушал сказку, догадавшись, зачем Анисим ее рассказал.
— Хороша байка, ничего не скажешь, а все же сознайся, в какой ты партии?
— У меньшевиков.
Василий так посмотрел на Анисима, словно никогда его раньше не видел, и резко сказал:
— Пей чай, хороший человек, работать вместе будем, а в твою партию не пойду.
— Вот как! Не по душе тебе меньшевики?
— Разговор окончен, — твердо и решительно оборвал его Василий.
— А я думаю продолжать, — без смущения возразил Анисим. — Какой ершистый! Никакой я не меньшевик и сроду с ними не якшался. А тебя хотел испытать. Мы с Нагорным большевики. Ты про них знаешь?
— Знаю, — ответил Василий. — Подумаю.
Василий ответил искренне. Он считал, что если вступит в партию, то отдаст ей целиком всю жизнь и никто с новой дороги его не собьет. Но надо решить этот вопрос самостоятельно, без сказок Кривочуба или намеков Нагорного.
Напившись чаю, Василий поблагодарил и стал собираться. Пожимая ему руку, Кривочуб спросил:
— А двуглавого русского орла видел?
— Ну, видел.
— Так верь мне, что все эти гербы большевики когда-нибудь сломают и создадут свой. И будут на гербе не змеи и не орлы, а рабочий и пахарь, а возле них детишки. Можешь не сомневаться.
Клавдия с каждым днем все более убеждалась, что Василий даже не помышляет сблизиться с ней. Он по-прежнему был немногословен, в свободные часы старался делать что-либо в доме: то дверь приладит, то стул починит, то книгу или газету читает. Первую получку принес и положил на стол.