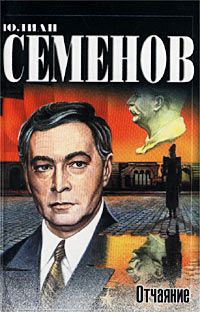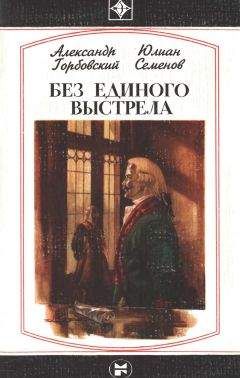— Вы бы согласились работать на Мюллера, случись такое?
— Не знаю, — ответил Исаев, подумав, что он плохо ответил, снова открылся, прокол. — Скорее всего — нет… Я бы просто сошел с ума… Думаю, если у вас есть дети, с вами случилось бы подобное же…
— Я покажу вам дело сына…
— Этого мало. Я хочу получить с ним свидание.
— Я же сказал: получите. После окончания работы.
— Я начну работать только после того, как вы освободите мою же… Александру Гаврилину и сына…
— Вы с Лозовским встречались?
— Кто это? Знакомая фамилия…
— Соломон Лозовский, председатель Профинтерна…
— В семнадцатом встречался… И в двадцать первом тоже, на конгрессе…
— Как думаете, генсек Профинтерна Лозовский — он сейчас депутат Верховного Совета, заместитель товарища Вячеслава Михайловича Молотова — помнит вас?
— Вряд ли…
— А вашего отца?
— Наверняка должен помнить…
Аркадий Аркадьевич снова принялся ходить по своему огромному кабинету, потом взял со стола стопку бумаги, самописку (очень дорогая, сразу же отметил Исаев, «монблан» с золотым пером и тремя золотыми ободками, миллионерский уровень) и положил перёд Исаевым.
— Пишите, — сказал он. — Депутату Верховного Совета СССР Лозовскому С. А.
— Я не умею писать под диктовку… Каков смысл письма?
— Вы обращаетесь к представителю высшего органа власти страны с просьбой о помиловании Гаврилиной и вашего сына…
— В качестве кого я обращаюсь к Лозовскому?
— Подписываетесь Штирлицем… Этот псевдоним, думаю, был известен высшему руководству наркомата, тьфу, министерства иностранных дел…
— «Заключенный Штирлиц»? — спросил Исаев. — Или «штандартенфюрер»?
Иванов рассмеялся:
— Я сам поеду с этим заявлением к Соломону Абрамовичу… И покажу вам его визу — какой бы она ни была… Второе письмо напишите товарищу Кузнецову Алексею Александровичу, секретарю ЦК ВКП(б), он теперь курирует органы, попросите его о переводе вас на дачу в связи с началом операции по шведу…
— Второе письмо я напишу после того, как вы покажете мне резолюцию Лозовского.
— Хорошо, не пишите про шведа, — досадливо поморщился Аркадий Аркадьевич. — Посетуйте на несправедливость в отношении вас и попросите, указав на работу против Карла Вольфа в Швейцарии, перевести на дачу… Напишите, что идет завершающий этап проверки, вы убеждены в предстоящей реабилитации, сдают нервы, одиночка — не курорт… С этим письмом поедет заместитель товарища Абакумова. Возможно, все дальнейшие встречи с Александрой Гаврилиной и свидание с сыном мы проведем на даче… Я ничего не обещаю, я говорю предположительно, не обольщайтесь…
Эти его слова и позволили Исаеву взять перо и лист бумаги…
…Спрятав заявления, Аркадий Аркадьевич отошел к своему столу, снял трубку телефона и коротко бросил:
— Введите.
…Привели штурмбанфюрера Риббе. Глаза его были по-прежнему совершенно пусты, лицо пепельное, прозрачное, с очень большими ушами; Исаеву даже показалось, что отечные мочки трясутся при каждом шаге.
Рат, сопровождавший Риббе, улыбнулся Исаеву, как доброму знакомому.
— Спросите его, — сказал Рату Аркадий Аркадьевич, — что он может показать о деятельности Валленберга в Будапеште…
— В конце ноября сорок четвертого года, — начал рапортовать Риббе, — Эйхман поручил мне провести встречу с Валленбергом на конспиративной квартире и обговорить формы связи в Стокгольме, если произойдет трагедия и рейх рухнет. Сначала я возражал Эйхману, говорил, что нельзя произносить такие слова, однако Эйхман заверил меня, что фраза согласована с группенфюрером Мюллером, некая форма проверки агента… Нам надо, пояснил Эйхман, проверить реакцию Валленберга, и это я поручаю вам… Во время конспиративной встречи Валленберг сказал, что он гарантирует безопасность нашим людям… Переправит их в Латинскую Америку, если мы выполним его просьбу и освободим тех евреев, список которых он передал ранее «его другу» Эйхману… Вот в общих чертах та единственная встреча, которую я имел с Валленбергом…
— Вы видели его вербовочное обязательство работать на РСХА? — спросил Аркадий Аркадьевич.
Рат перевел, Исаев отметил, что он допустил ошибку, ерундовую, конечно, но тем не менее двоякотолкуемую: вместо «обязательство» сказал «обещание»; в разведке не «обещают», а «работают».
— Нет, — ответил Риббе, — все эти документы Эйхман хранил в своем сейфе…
— Каким образом Эйхман исчез? — спросил Аркадий Аркадьевич.
— Говорили, что он пробрался во Фленсбург, а оттуда — в Данию…
— Вы хотите сказать, что он стремился попасть в Швецию?
— Бесспорно. Все остальные партийные товари… коллеги, — быстро, с испугом поправился Риббе, — стремились на юг, к швейцарской границе, чтобы уходить по линии ОДЕССа1 в Италию, а оттуда — в Испанию…
Аркадий Аркадьевич неожиданно обернулся к Исаеву и быстро спросил на ужасном немецком:
— Штирлиц, это правда?
— Да, — ответил Максим Максимович и сразу же пожалел об этом, надо было просто кивнуть; его уже, хоть в самой малости, в едином слове «да», втянули в комбинацию…
— Вас вывозили через Италию, Штирлиц? — продолжая коверкать немецкий, уточнил Аркадий Аркадьевич.
Исаев колебался лишь одно мгновение, потом ответил по-русски:
— Да, товарищ генерал…
Риббе никак не прореагировал на то, что он заговорил по-русски, отсутствовал; Иванов и Рат многозначительно переглянулись, и, хотя это было лишь одно мгновение, Исаев точно засек выражение их острых, напряженных глаз.
— Спасибо, Риббе, — мягко сказал Аркадий Аркадьевич. — Можете сегодня отдыхать, завтра вам увеличат прогулку до часа…
Рат чуть тронул Риббе, тот, словно автомат, повернулся и зашагал к двери, вытянув руки по швам, словно шел на параде…
— Ну как? — спросил Иванов. — Вы ему поверили? Или врет?
— Видимо, вы даете ему какие-то препараты, Аркадий Аркадьевич… Он производит впечатление больного человека… Он малоубедителен… Как Ван дер Люббе…
— Кто? — не понял тот.
— Ван дер Люббе, свидетель гитлеровского обвинения в процессе против Георгия Димитрова…
— Я отдам сотрудника под суд, — тихо, с яростью сказал Аркадий Аркадьевич, — если узнаю, что он применяет недозволенные методы ведения следствия…
Сейчас лучше промолчать, сказал себе Исаев; он должен отдать под суд Сергея Сергеевича, который держал меня на стуле по сорок часов без движения, да еще лампа выжигала глаза…
…Дверь внезапно открылась; вошел невысокого роста человек; Аркадий Аркадьевич замер, подобрался, лицо его резко изменилось, сделалось подобострастным, внимающим…
— Здравия желаю, товарищ Мальков! — отрапортовал он. — Разрешите продолжать работу? Или прикажете отправить заключенного в камеру?
— Нет, нет, продолжайте, — ответил Мальков. — Если не будете возражать, я посижу, послушаю, не обращайте на меня внимания…
…Мальков устроился на стуле с подлокотниками в углу кабинета, возле окна, так, чтобы лица не было видно заключенному, — солнце обтекало его толстое, женственное тело, лицо с коротенькими усами и бородкой-эспаньолкой, в то время как слепящие лучи делали землистое лицо Исаева со впавшими щеками, выпершими скулами и морщинистым лбом четким, как фотография.
— Итак, Всеволод Владимирович, — Иванов заговорил иначе, сдержаннее, даже голос изменился, чуть сел, — по указанию руководства я выполнил две ваши просьбы, что дает вам основание верить, что и последняя, третья, будет выполнена, тем более вы обратились к товарищу Кузнецову и товарищу Лозовскому, другу вашего покойного отца… Могу ли я в присутствии товарища Малькова задать вопрос: вы готовы помочь нам распутать шведский узел?
— Я уже ответил: до тех пор, пока я не увижу сына, все разговоры бессмысленны.
— Разумно ли ставить ультиматум?
Аркадий Аркадьевич отошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета, с видимым трудом открыл тяжелую бронированную дверь, достал папку с грифом «совершенно секретно, хранить вечно», предложил:
— Полистайте.
Исаев машинально похлопал себя по карманам:
— Очки-то вы у меня изъяли…
— Вернем, — пообещал Аркадий Аркадьевич и протянул Исаеву свои — маленькие, круглые, в коричневой целлулоидной оправе.
Он дал мне дело Сани, понял Исаев; это — пик нашего противостояния, я должен приготовиться к схватке, я не имею права ее проиграть, грош тебе цена, если ты проиграешь; ты выиграешь ее, потому что ты устал жить, тебе стало это неинтересно после теплохода «Куйбышев», «Лондона» и одиночки; тебе пусто жить после встречи с изломанной Сашенькой, которая невольно выполняет их задания, откуда ей, бедненькой тростиночке, знать наши хитрости… Ты виноват в том, что погубил ее жизнь, ты виноват в том, что твой мальчик сидит в камере; если виноват — искупай вину, принимай бой; смерть — избавление, я мечтаю о ней, но они, эти двое, — люди иной структуры, и то, что они не понимают моей жажды искупления вины, дает мне простор для маневра… Нет, сказал он себе, не торопясь открывать папку, ты виноват не только в том, что погубил самых близких, единственных, ты еще виноват в том, что предал друзей — тех, с кем начинал… Ты предал память Дзержинского, согласившись с тем, что все его помощники — Кедров, Трифонов, Сыроежкин, Уншлихт — «шпионы»; Революцию, разрешив себе смириться с тем, что друзья Ленина оказались «врагами и диверсантами», ты кругом виноват, и то, что ты выкрал Мюллера, закончив этим свою личную борьбу с нацизмом, не снимает с тебя вины… Ладно, сказал он себе, это — прошлое, сейчас ты готов к бою, открывай страницу…