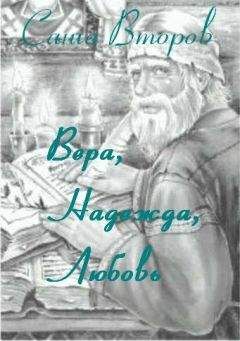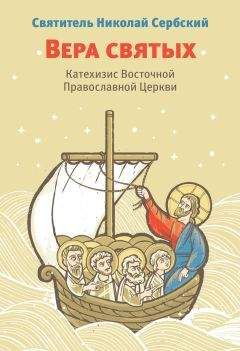А потом уж приехала третья волна — “инакомыслящие”, они даже теперь не полноценные эмигранты, они — искатели, кто ищет добро, а кто — богатство. Они покинули свою родину сознательно, переезжая в другую страну, чтобы богатеть. К России уважения у них мало и к Церкви тоже, большинство из них мы не видим, ведь они выросли в безбожном СССР. Но есть какая-то часть, которая приходит в храм и воцерковляется, становится там верующими.
Счастье, Марусенька, что ты нашла свой путь в храм здесь, в Москве. Счастье, что ты пришла к этому сознательно. И еще я очень надеюсь, что у нас будет полная семья и мы сможем вложить в наших деток настоящую веру, которая защитит их от душевного хаоса.
Мой отец до сих пор боится сюда приезжать, да его и не пустят, он убежден, что России так и не увидит. Если бы не моя работа, я бы тоже не приехал и тебя бы не встретил…
И вот наконец-то они вместе и все неприятности позади!
В это первое парижское лето Маруся совершенно сознательно решила поехать в русский лагерь. Рассказы Олега ее так напоили, так вдохновили, что хотелось ей послужить русской эмиграции всей душой.
Прошло несколько дней, и первое неприятное впечатление от лагеря улеглось, на смену пришел покой. Она много ходила пешком, особенно по лесу. Закидывая голову вверх, удивлялась диковинным древесным стволам, так непохожим на русские липы и дубы. Неизвестные гиганты, словно зелеными змеями, были обвиты плющом, а сквозь заросли пробивались необычные кудрявые кусты с колючими листьями и гладкими, словно капли крови, красными ягодами. На полянах, там, где деревья расступались, пушистым золотом светились пахучие незнакомые цветы и совсем свои русские колокольчики, ромашки, брусника, черника, малина, а вот ежевика, и терпкий вкус ее Марусе не нравился. В лесу было много гигантских валунов, белого мха, и это тоже напоминало Карельский перешеек. Тянуло из глубины леса болотной сыростью, и неожиданно бутылочным стеклом высвечивались маленькие озерца, густо заросшие по краям кувшинками. Она всегда любила природу, а здесь, в этой соблазнительной французской глуши, она неожиданно испытала восторг, когда нос к носу столкнулась с дикой козочкой, а в другой раз увидела лису. Каждое утро, выйдя из палатки, она окуналась в млечное марево, ноги жгла роса, но через полчаса будто внутреннее солнце растворяло этот временный туман, и за чернобархатным лесом вырисовывались белые пики Альп, а в розовое заспанное небо из дальней высокой трубы деревенского дома, затерявшегося на склоне, поднимался сизый дымок, и ветер доносил запах испеченного хлеба и свежескошенной травы. Изо дня в день эта красота и покой постепенно заполняли Марусю, вытесняя из ее груди все темное и тяжелое. И дрожащее счастье, похожее на счастье невинного детства, на волнения души, сравнимые только с первой любовью, поднималось в ней и закрепляло уверенность, что все страшное уже позади и не нужно жалеть о своем решении уехать навсегда во Францию.
Общение с детьми, занятия с ними русским языком наладились легко. Уроки она построила на игре, разучивании стихов, песенок. Директриса сменила гнев на милость и предложила Марусе устроить постановку русской сказки. Тут в ход пошли ножницы, бумага, обрывки ткани, нужно было смастерить костюмы. В этой затее ее помощниками были Нина и новый знакомый, попутчик, как он сам себя в шутку называл, “побегушник”.
Как-то после воскресной литургии, которая проходила в одной из больших палаток, оборудованных под походную церковь, все ушли трапезничать, а Маруся осталась вдвоем с Ниной прибрать после службы.
— Ты давно во Франции?
— Уже три года, но каждую зиму езжу к себе домой в Тверь.
— Скучаешь?
— А как ты думаешь? Подожди, вот пройдет годик, и ты взвоешь. Видела мою свекровь? Ведь она меня приняла мордой об стол, я как только появилась, сразу стала для нее врагом номер один. Думаешь, почему у меня нет детей? А потому, что они мне сказали сразу, что, как только я рожу, они будут заниматься воспитанием ребенка. Я, видишь ли, для них “не своя”, ничему, кроме совковости, научить не смогу.
— Брось, Ниночка, это тебе так кажется. Это оттого, что у них была трудная жизнь, вдали от родины, на чужбине. Они привыкли держаться своего клана, а иначе не выжили бы. Мне мой муж говорил, что никто из новой эмиграции этого не понимает.
Маруся засмеялась и попыталась сгладить неловкость разговора.
— Вспомни, как твоя свекровь меня встретила.
— Ты смеешься, а мне плакать хочется. Я как только приехала и еще ни бум-бум по-французски, так она специально делала вид, что по-русски не знает. А уж с церковью… совсем замучила. Обзывала, что я нехристь и что я такая-сякая необразованная… — тут Ниночка бросила взгляд на икону и сдержалась.
— Как же тебя сюда занесло?
— Ох, случайно, случайно… и все потому, что поддалась соблазнам. Захотела получить хорошее образование. Думала, в Сорбонну поступлю, ведь в Твери я уже один диплом получила, по литературе. Гидом подрабатывала, так и встретилась с моим благоверным. Он мне наобещал золотые горы, да ладно… скажу тебе прямо, в общем, как узнала, что он из Парижа, своего упускать не хотела, — и, выдержав небольшую паузу, странным голосом закончила: — Теперь вот маюсь в наказание, потому как все мне здесь опостылело и все не свое.
— Пойдем посидим на лавочке, — предложила Маруся и, взяв за руку, вывела Нину прочь из церкви. Вот ведь как странно! Сколько раз она пыталась задавать себе те же вопросы. Кто свой, а кто чужой? И теперь после всех событий ей на этот вопрос было бы трудно дать четкий ответ. Ведь жизнь так многоцветна, а тут слова Ниночки вызвали в ней воспоминания о черно-белых годах.
— Знаешь, тебе трудно потому, что ты не хочешь согласиться с тем, что этим русским эмигрантам было тяжелее, чем нам, на родине.
— Неправда! — вскипела Нина. — Они мне все уши прожужжали о своих предках, о том, как они с красными воевали, а что мы в СССР ничего об этом не знаем. Они тут, видите ли, в нищете прозябали да свое православие спасали! Ушатами с утра до ночи выливали на меня самую негативную пропаганду… а у меня ведь отец герой, воевал, ранен под Берлином.
— Попробуй если не полюбить, то хоть сердцем их принять, — глухим голосом проговорила Маруся.
— Чую, что сейчас ты меня спросишь о Боге! — ядовито бросила Нина. — Не надо. Я хоть и крещеная, но ни свечкодуйкой, ни церковной крысой не стала.
Какие-то большие незнакомые птицы летели у них над головами к югу, и Маруся, проводив их взглядом, вспомнила, как однажды отец Николай ей растолковал текст Евангелия о том, что у Бога “много званых и мало избранных”, и подумала, что совершенно бесполезно говорить об этом с Ниной. Она не поймет, а воспримет как проявление гордыни с ее стороны и еще больше замкнется.
— Ошибаешься, не буду тебя терзать. У каждого свой путь. Расскажи лучше, где ты познакомилась с Ленчиком? Мы его Длинным звали.
Неожиданно лицо Нины осветилось улыбкой, брови распрямились, и она весело сказала:
— У меня с ним романчик. Назло этой выдре, — и она кивнула в направлении трапезной. — Мы с ним столкнулись случайно, он в книжный магазин зашел, я там работала, а потом у моих подружек парижских кантовались. Они, как и я, — запнулась и зло добавила: — Советские жены.
— Правда, что он собирается сюда приехать?
— Ну, да. Через пару деньков. Мои родственнички еще не знают об этом, — она хихикнула и, вздохнув, продолжила: — Надо же какое совпадение, он сюда заявится… а ты здесь. Для него это будет сюрприз сюрпризов! О тебе он мне такое рассказывал, что я сразу поняла, он тебя любил. Он журналистом был, а теперь переводами занимается для конференций, то в ООН, то в Юнеско. Много по свету мотается, живет в основном в Лондоне, — она поправила маленькой ручкой выбившиеся из-под косынки волосы, и ее серые глаза хитро блеснули, — хорошо зарабатывает, подарочки мне делает, не то что мой голоштанный дворянин. Ты бы видела, на каких табуретках я сижу дома! У нас бы давно на помойку выбросили.
Маруся всмотрелась в дальний лесок на горизонте и физически ощутила прохладу его тенистых дубрав. Она перевела взгляд на необычной формы скалу и сверкающий на солнце горный поток и только сейчас заметила очертание белого мостика, а под ним крохотный игрушечный домишко. Нина продолжала рассуждать о пользе брака, о том, что ровно через год она станет француженкой, подаст на развод, а если родить двоих детей, то как матери-одиночке ей будут выплачивать такое пособие, с которым можно не работая жить припеваючи. Она мечтала о том, как выпишет свою мать и та наконец увидит мир и, может, на старости лет найдет себе нормального мужика, а не их пьянчугу отца. И неожиданно резко подвела черту.
— Все равно наша Тверь лучше ихнего Парижа, особенно люди!
Обед, видимо, закончился, и из трапезной донеслись голоса молящихся. Первыми на поляну перед домом выскочили мальчишки и сразу побежали играть в футбол, потом вышли “руко” со старшеклассниками и со священником, он им что-то на ходу продолжал говорить, блаженно улыбаясь, держа на руках малыша, появилась директриса, и неожиданно резко в этой праздничной благодати зазвучал напористый глас горниста. На лужайке дежурный по смене, быстро-быстро дергая упругий шнурок, поднял трехцветный флаг.