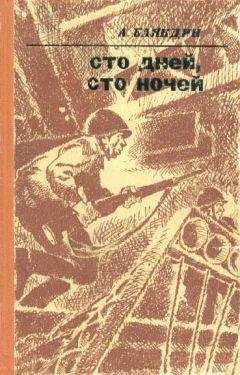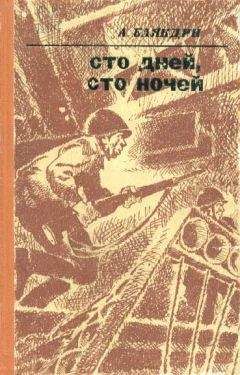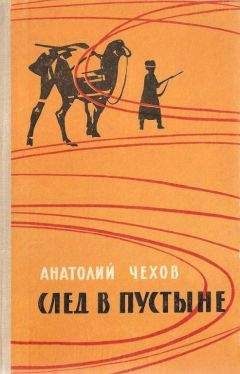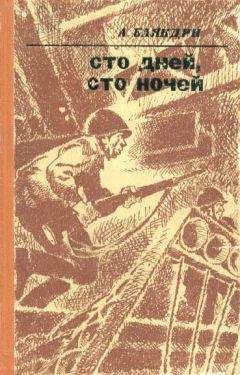По просьбе девушек хозяйка вскипятила чугун воды. «И как это у них получается? — подумал я. — Не успели освободить деревню, а они уж как дома тут».
— Будете головы мыть? — спросила Вера.
Я покачал головой — мне почему-то стало неловко — и направился к выходу, а Толька словно прилип к скамейке.
— Я, пожалуй, помою, — буркнул он.
Мне ничего не оставалось, как выйти за дверь. Вера догнала меня на крылечке, легонько ударила по плечу.
— Куда ты?
— Пойду…
— По-ойду, — напирая на «о», передразнила она мой уральский выговор. — Бука! Дай хоть платок постираю.
Мне стало обидно, что не я, а Толька остался мыть голову, что меня не удерживают. Но платок все же я вытащил из кармана. Вера бесцеремонно схватила его и, показав кончик языка, скрылась за дверью.
Который день я чувствую боль в горле. Но сказать об этом никому не смею, тем более комбату. Подумают — симулирую.
Грязи уже нет. Легкий морозец сковал ее, присыпал снежком. По крайней мере хоть на зиму похоже теперь. Наступаем мы быстро, чтобы не отстать от противника. А то иначе — догоняй его!
Я уже не могу скрывать своей болезни. Меня то знобит, то бросает в жар. Но я продолжаю идти вместе со всеми. За эти дни нас еще поубавилось. Санитарная рота полка то догоняет, то снова отстает, потому что мы наступаем по-суворовски, прямиком через заснеженные поля, через трясины болот, через овраги и речки, а тылы полка с обозом вынуждены придерживаться дорог.
Вера и Фарида, не отставая, идут позади нас вместе с комбатами и штабными офицерами полка. В наступлении настроение всегда повышается, и потому все веселы. Офицеры сыплют шутками, Фарида отвечает на шутки своими поговорками. Иногда я слышу смех Веры, сдержанный и немного, как мне кажется, неоткровенный, будто какая-то мысль все время мешает ей.
После непродолжительного боя занимаем небольшую деревушку, стиснутую двумя угорами. Ждем появления командира полка. Толька что-то говорит мне, но я его не понимаю. И не потому, что не хочу понимать, а просто я не в силах осознать его слова: меня начинает трясти, и я зубами отбиваю точки и тире, как на морзянке.
— Что с тобой? — спрашивает Толька, внимательно рассматривая меня.
Я почему-то злюсь и молчу. Толька пожимает плечами и уходит. Потом возле меня появляется Вера. Она берет меня за руку и заводит в первую попавшуюся хату, точно я маленький ребенок, а не командир взвода автоматчиков гвардии младший лейтенант Андрей Копылов.
Лицо Веры по-докторски сосредоточенное. И я уже не смущаюсь, даже тогда, когда она, расстегнув воротник моей гимнастерки, запускает мне за пазуху холодную руку с обжигающим тело градусником.
Я покорно раскрываю рот и говорю «а-а-а». Вера молчит; и от этого молчания я опять начинаю злиться: «Вот возьму и вышвырну ее градусник». Вероятно, мое лицо выразило это намерение, потому что Вера быстро приложила холодную ладошку к моему лбу. И от прикосновения ее руки я как-то сразу сник и размяк. Злость прошла, и мне стало хорошо. Через какую-нибудь секунду Верина ладонь нагрелась так же сильно, как мой лоб. Рукав ее шинели щекотал мой нос, и мне захотелось рассмеяться. Но смех у меня не получился. Виноваты ли были в этом золотистые волоски на ее руке или синяя пульсирующая жилка, которую я внимательно разглядывал, — не знаю.
Рука у Веры гладкая, с чуть смугловатой кожей. Мне хотелось заглянуть под рукав гимнастерки с марлевыми подманжетиками и поцеловать синюю жилку, уходящую к локтю. Но Вера… Вера сама прижала мою голову к своей груди и тихо сказала:
— Какая горячая!
Меня привезли в полковую санроту и поместили в стационар — небольшую комнатушку. В комнатушке лежал всего один больной — старший лейтенант Дерябин, командир полковой минометной роты. Сейчас нас стало двое.
Вероятно, я был очень болен, потому что после осмотра меня сразу же запеленали в ватный конверт, предварительно напичкав таблетками и напоив горячим чаем.
После полуторанедельного наступления я впервые спал по-человечески. Спал сколько влезет, не думая и не заботясь ни о чем. Одно было плохо: я не мог разговаривать. В горле что-то нарывало и мешало дышать.
— Фолликулярная ангина, — сказала врач санроты капитан медслужбы Хасанянова, небольшая юркая девушка с такими же глазами, как у Фариды Вахитовой. Хотя обе они были татарочки, Хасанянову называли в полку по-русски — Ниной. В отличие от Фариды с ее жесткой ершистой шевелюрой Нина носит роскошные косы, похожие на черные канаты и спадающие до самой поясницы. Эти косы вызывают зависть многих девушек.
— Ну, герой, ротик открой, — говорит Нина, подходя ко мне на следующее утро.
Я с трудом раскрываю рот и жду, когда она оботрет куском марли шпатель и придавит им мой язык. После долгих исследований горла Нина назначает лечение. Хотя я чувствую себя куда ниже среднего, но при Нине стараюсь приободриться и даже ухитряюсь сказать нечто вроде: «Долго лежать-то?» Нина, сверкая остренькими зубками, весело говорит: «Это мы посмотрим», — и отходит к Дерябину.
У Дерябина легкое ранение в ягодицу. Вообще, здесь тяжелых не держат. Всех поступающих раненых «обрабатывают» и направляют в дивизионный санбат. Дерябин не захотел уезжать из полка и остался в санроте.
Пока Нина осматривает раненого, в комнатушку влетает Марийка, высокая девушка с санитарной сумкой через плечо. Ее круглые щеки похожи на красные помидоры, а волосы — на пушистую копну сена. С Марийкой мы друзья, и наша дружба никогда не переходит границ. Чувствует это Марийка, чувствую это и я.
Марийка что-то хочет сказать Нине, но, увидев меня, подходит к моему топчану. От нее пахнет снегом и медикаментами.
— Что с тобой?
— Пустяки, перпендикулярная ангина, — шепчу я.
Марийка смеется и запускает свои пальцы в мои вихры. Я опять вижу синюю жилку, но эта жилка меня не волнует. Мне просто приятно, что девушка треплет меня за волосы.
— Знаешь, Андрейка, Веру Берестневу ранило. Сегодня. Ее прямо в санбат отправили.
Меня подбросило. Марийка отдернула руку, больно теребнув меня за вихор.
— Ты что?
До позднего вечера я лежу на скрипучем топчане не двигаясь. Время от времени ко мне подходит Дерябин и спрашивает:
— Плохо?
Я закрываю глаза. Да, мне плохо. Лучше бы Марийка промолчала, но она ничего не знала о моих чувствах, Теперь она догадывается. И ей так же больно, как и мне. Марийка — настоящий друг и поэтому не старается утешить. Мы солдаты, а солдаты не любят, чтобы их утешали. Наше горе молчаливое. Мы слишком много перевидели этого горя и знаем ему настоящую цену.
У меня поднимается температура. Марийка заставляет глотать стрептоцид и пить горячее молоко с маслом. Я пытаюсь отказаться, но она, глядя мне в глаза, говорит: «Надо». И я пью молоко и глотаю таблетки.
Ночью, когда Марийка, пожав мне руку, уходит за переборку, я вытаскиваю из нагрудного кармана сложенный вчетверо платок. Носовой платок, тот самый, что постирала мне Вера. Платок пахнет духами.
Дерябин тоже идет за переборку. Я остаюсь один и не знаю, почему мои глаза делаются мокрыми. Может быть, потому, что я не могу разговаривать с девушками, как сейчас разговаривал с ними Дерябин, а может, и вовсе не оттого.
И я думаю, вспоминаю.
…За длинным столом сидели девушки. Много девушек. Самых красивых девушек на всем фронте. Потому что с сегодняшнего дня они наши, нашего гвардейского полка. На середине стола отдувалась эмалированная кастрюля с вареной картошкой в мундире. Обжигая пальцы, девушки с хохотом уплетали ее. Без хлеба. Так вкусней. Картошка и немного крупчатой соли. Военной соли сорок третьего года.
Толька Федоров (мы познакомились с ним в госпитале, когда меня впервые ранило, и вместе пришли в полк) подтолкнул меня вперед и назвал по фамилии.
— Вот, девчата, это мой друг. Назначен в наш полк, а именно — в первый батальон. Прошу любить…
Чтобы не заметили девушки, я с остервенением ткнул его локтем в бок: «Куда ты меня привел? Ну погоди, леший полосатый, дай только выйти отсюда». Не успели мы охнуть, как уже оказались за столом. Ловкие руки девушек (те самые, что затащили нас за стол) очистили для меня и Тольки по самой большой картофелине.
— Ешьте, ребята.
— А вы откуда?
— С Урала.
— Слышишь, Катюша, с Урала. Твой земляк.
— Еще очистить? Да вы не стесняйтесь.
— Девоньки, младший лейтенант тоже был на Волге. Значит, все земляки.
— Чаю хотите?
— Да погоди ты с чаем, дай с дороги поесть человеку.
И откуда-то сбоку:
— А он симпатичный… краснеть умеет. Вот здорово!
После двух картофелин я, наконец, поднял глаза. Напротив сидела круглолицая девушка с лейтенантскими узкими погонами. Ее волосы раскинулись по плечам и были похожи на пушистое сено. Рядом с ней — блондинка с белым продолговатым лицом. Это ее зовут Катюшей. Я оказался между девушкой с длинными черными косами и девушкой с тонким интеллигентным лицом. На дальнем конце еще несколько девушек. Качающийся свет гильзы мешал рассмотреть их лица. Но я уже чувствовал, что они тоже красивые.